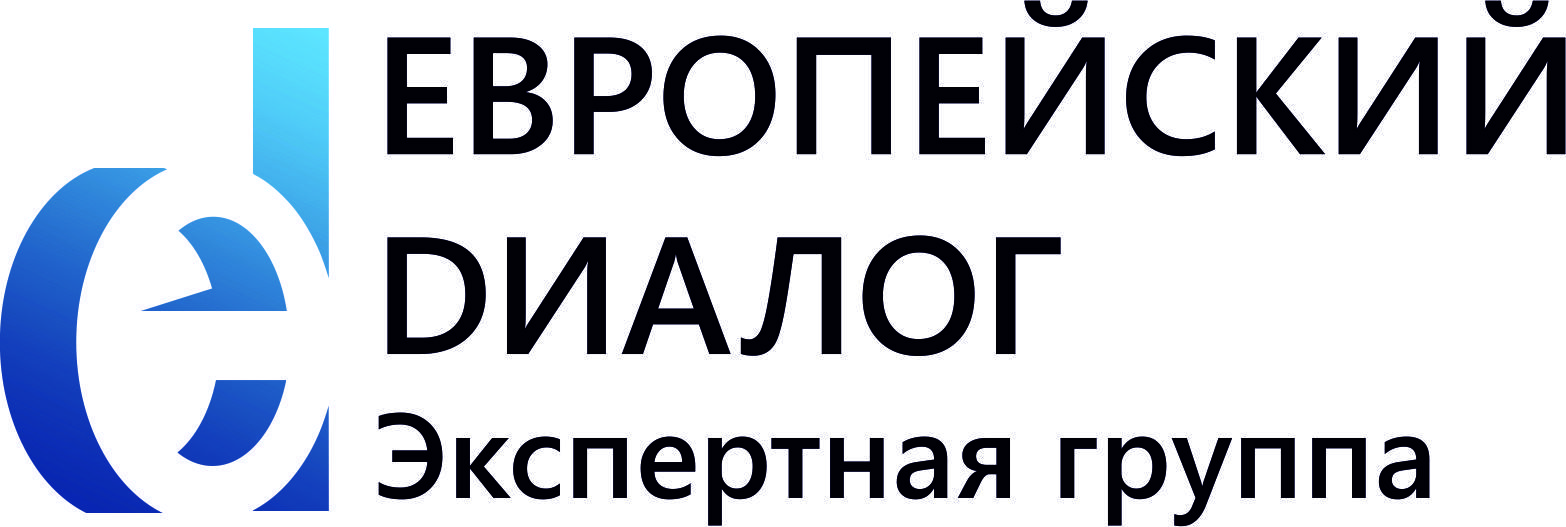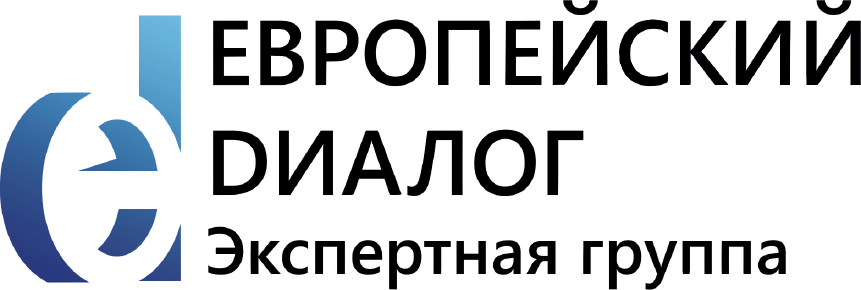ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА «ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ»
ФОНД «ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ»
В XXI ВЕКЕ
и новые либеральные ответы
Дискуссии получились настолько содержательными и интересными, что мы решили их переработать и издать в виде одного сборника выступлений экспертов.
– дискутант Фальк Бомсдорф
— дискутант Сергей Лукашевский
— дискутант Герхарт Баум
— дискутант Юрий Джибладзе
— дискутант Вячеслав Бахмин
— дискутант Лилия Шибанова
— дискутант Валентин Гефтер
— дискутант Сергей Давидис
— дискутант Александр Гнездилов
— дискутант Каринна Москаленко
– дискутант Владимир Рыжков
— дискутант Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен
— дискутант Карл Гроувед
— дискутант Симон Мраз
— дискутант Андрей Нечаев
— дискутант Анатолий Голубовский
— дискутант Александр Гнездилов
— дискутант Артем Лоскутов
– дискутант Владимир Рыжков
— дискутант Елена Степанова
— дискутант Алексей Малашенко
— дискутант Биджан Джир-Сарай
— дискутант Сергей Чапнин
— дискутант Константин Эггерт
— дискутант Алексей Бодров
— дискутант Алена Хоффманн
— дискутант Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен
— общая дискуссия
Всеобщая декларация прав человека. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 217 A (III)
Самостоянье человека — залог величия его.
А.С. Пушкин
Тот факт, что цель свободы — создание возможностей для развития, которые мы не способны предсказать, означает, что мы никогда не узнаем, что потеряем при ограничении свободы. (…) Если выбор между свободой и принуждением рассматривается как вопрос целесообразности, решение по которому должно приниматься особо в каждом конкретном случае, то свобода всегда будет ограничиваться. (…) Действенная защита свободы должна… непременно быть непреклонной, догматичной и доктринальной и не может идти на уступки в угоду целесообразности.
Фридрих фон Хайек
Попытка создать рай на земле неизбежно приводит к созданию преисподней. Она вызывает нетерпимость. Она вызывает религиозные войны и спасение душ посредством инквизиции.
Карл Поппер. Открытое общество и его враги
Либеральная идея имеет глубокие корни в греческой философии, в моральных принципах всех мировых религий, находя наиболее яркое отражение у мыслителей эпохи Просвещения. Либеральная идея прошла победным маршем по всем континентам нашей планеты, однако она терпела и серьезные поражения, поскольку это не единственная концепция на рынке идей. Именно поэтому крайне важно понимать, способна ли либеральная идея выработать ответы на насущные вопросы современности, такие как глобализация, цифровизация, миграция, торговля, изменение климата и вновь поднимающий голову популизм и национализм. Наша книга — доказательство того, что на эти вопросы существуют либеральные ответы и есть множество толкований либеральной идеи и предлагаемых ею вариантов решения проблем.
Либерализм представляет собой систему ценностей, в которой отправной точкой и целью любых действий в обществе и в экономике считается достоинство личности, свобода и ответственность. Непреложным условием сосуществования людей является признание достоинства каждого отдельного человека. Еще Иммануил Кант видит основание для достоинства человека в том, что ему дана свобода самостоятельно принимать решения. Только тот, кто обладает свободой поступить либо так, либо иначе, может брать на себя ответственность. Значит, чтобы соответствовать достоинству, которое дарит индивидууму свобода, необходимо брать на себя ответственность, сначала за собственную жизнь. Таким образом, свобода, достоинство и ответственность — это не разные ценности, они обуславливают друг друга. А.С. Пушкин пишет: «Самостоянье человека — залог величия его»1. А Фридрих Шиллер так видит связь между достоинством и свободой: «Свобода духа есть владение страстями благодаря силе морали, выражаемой через достоинство» 2.
Поскольку для либералов эти три понятия представляют собой исходную точку и цель любой системы, либералы знают, что, беря на себя ответственность за других, они рискуют ограничить их достоинство и свободу. Поэтому критикам либеральная идея нередко и представляется асоциальной или холодной, хотя по моральным основаниям критерием для коллективной помощи другим должны выступать именно эти базовые принципы: ответственность, свобода и достоинство.
В европейском Просвещении начиная с XVII века базовая либеральная позиция приняла форму политической философии. Взаимодействие индивидуальной свободы, достоинства и ответственности Иммануил Кант описывает, отвечая на вопрос, что означает Просвещение: «Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине — это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! — имей мужество пользоваться собственным умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения»2.
Начиная с XIX века эти базовые принципы, претерпев множество поражений, тем не менее стали все более уверенно распространяться по всей планете. После ужасов двух мировых войн, пережитых человечеством в первой половине XX столетия, в 1948 году права человека, сформулированные еще мыслителями Просвещения, были зафиксированы Генеральной Ассамблеей ООН в виде Всеобщей декларации прав человека. Правда, реальность в странах, подписавших Декларацию, нередко не соответствовала заявленным в ней требованиям, но как минимум казалось, что достигнут консенсус о целях. Со временем логика экономической свободы обеспечила либеральным демократиям такое преимущество в холодной войне с их социалистическими соперниками, что и в бывших странах соцлагеря, после того как они сами пришли к экономическому коллапсу, про- изошел поворот в сторону построения либеральных систем в государственном управлении и экономике.
Однако день сегодняшний показывает нам, что мы весьма далеки от предсказанного политологом Фрэнсисом Фукуямой в 1989 году «Конца истории»1, который должен был ознаменоваться победой принципов либерализма в форме демократии и рыночной экономики во всем мире. Сопротивление либеральным системам по-прежнему велико. Нынешние власти, левые или правые, занимаются даже моральной травлей либеральных идей.
Авторитарным правителям и антиглобалистам, коммунистам и националистам, консерваторам-реакционерам и экосоциалистам очень не нравится, когда в центре внимания находится достоинство личности, свобода и ответственность, а не коллектив. Одни по-прежнему вместо индивидуумов видят классовую борьбу, другие — конкуренцию и соперничество между народами и культурами. Многие левые снова и снова стараются увлечь людей коллективистскими утопиями, многие правые продолжают желать, чтобы человек не отрывался от коллектива, определенного ими самими как этническая группа или народ.
Но, несмотря на сегодняшние нападки и многочисленные поражения, история либерализма в длительной исторической перспективе остается историей успеха. Никогда в мире не существовало столько демократических систем правления, основанных на правах личности и принципах правового государства, как в последние 30 лет. Наука дает нам множество аргументов в пользу того, что либеральные институты, от принципа разделения властей до защиты прав собственности, представляют собой решающие факторы успеха для национальных экономик; более того, они определяют успех государства в целом2. Тем не менее опасно видеть мерило либерализма лишь в его успехах в экономической и общественной сфере, поскольку при этом забывается, что в основе его лежит мораль Просвещения.
В этой триаде — достоинство личности, свобода и ответственность — скрывается базовая аксиома либерализма и его важнейшая черта, отличающая его от других политических теорий и систем ценностей.
Германский политолог Аладин Эль-Мафаалани пишет:
«Серьезное отношение к политике предполагает не попытки рассмотреть и решить каждую проблему изолированно, а наличие компаса и постановку целей»1. Именно это мы и пытались сделать, ведя дискуссии и ища ответы на вызовы XXI столетия. Хочется надеяться, что сквозь многоголосье, образуемое множеством мнений участников дискуссии, читатель везде услышит пламенную речь в защиту свободы, которую израильско-швейцарский психоаналитик Карло Штренгер описывает так: «Либерализм — это не учение-панацея, позволяющее создать рай не земле. Но перед лицом варварских альтернатив возможность жить в условиях свободы (при всех ее недостатках) мне кажется огромным достижением цивилизации. От нас зависит, сможем ли мы передать будущим поколениям способность выдержать боль свободы и распознать красоту приключения под названием “свобода”»2.
и следите за обновлениями!
При быстром росте числа жителей Земли либерализм добился того, что уровень жизни людей рос и растет намного быстрее, чем прирастает население планеты. Никогда прежде в человеческой истории люди не жили так сыто, долго, комфортно и богато, как в последние 200 лет, когда силы, освобожденные либерализмом, принялись за свою созидательную работу. Это касается не только Запада —исторической родины либерализма, но и всех других регионов мира — от Латинской Америки до Азии и Африки. Всюду, где либеральные принципы находят свое воплощение в жизни, благосостояние людей быстро и устойчиво повышается. И наоборот, там, где либеральные принципы отвергаются, — там экономика и социальная сфера деградируют, в обществе царит застой, неравенство и коррупция.
Либерализм, созданный лучшими умами европейского Просвещения в XVII–XVIII веках, разрушил старый поря- док с его господством узких правящих элит, опирающихся на насилие и авторитет, как и замкнутые экономические структуры ремесленных цехов и крупного землевладения.
«Общественный порядок, созданный философией Просвещения, передал верховную власть простому человеку. В качестве потребителя “простой человек” был призван определять, в конечном счете, что производить, в каком количестве и какого качества, кем, как и где; в качестве избирателя он был носителем верховной власти в деле направления политики страны» (Л. фон Мизес. Либерализм). Экономическая система либерализма, в основе которой лежат частная собственность на средства производства, свобода обмена товарами и услугами по свободным ценам, свободный рынок труда, конечная власть массового потребителя над производителем — то есть капитализм, — оказалась самой производительной и при этом самой справедливой из всех экономических систем, известных человечеству.
Либерализм принес людям подлинное равенство. Все прежние общественные системы были иерархическими, сословными, по сути — кастовыми. Либеральное общество — это общество граждан, обладающихравными правами. В либеральном обществе каждый человек, наделенный способностями и желанием, может достичь вершин общественного признания, не подвергая при этом опасности свободу и достоинство других людей.
Либерализм принес людям прочный гражданский мир. Не стало больше «ограничений и преследований из-за национальности, взглядов или веры. Прекратились внутренние национальные и религиозные гонения, войны междустранами стали реже» (Мизес).
Либерализм означает гражданский мир, в противоположность другим политическим доктринам, проповедующим соперничество и исключительность и тем самым обосновывающим гражданские конфликты и войны.
Либерализм распространил свободу с привилегированного меньшинства на всех людей. Всеобщая свобода, уважение достоинства каждого человека — величайшее достижение либерализма. Либерализм, признавая необходимость государства для достижения гражданского мира и правового порядка, положил границы власти государства, необходимые для сохранения свободы. Великие либеральные мыслители Дж. Локк, Ш. Монтескье, И. Кант и А. Фергюсон разработали общественную систему, стоящую на защите свободы каждого человека. Разделение властей, верховенство права, автономия гражданского общества по отношению к государству, естественные неотменяемые права человека (прежде всего на жизнь, свободу и собственность), государство, ограниченное в своей власти правом, — основные составляющие либеральной «конституции свободы» (Ф. Хайек). Обретя реальную почву сначала в Англии, Нидерландах и США, обоснованная либералами свободная общественная система распространилась в последствии по всему миру, став фактически современным стандартом «хорошего управления».
Демократия также важнейшее достижение либерализма. Принцип высшей власти народа – «народного суверенитета» Ж.-Ж. Руссо — стал в наши дни основополагающим принципом легитимного и справедливого правления. После краха всех идеологий-соперников либеральная демократия, то есть власть народа, ограниченная правом, осталась главной идеологией человечества, ознаменовав собой своего рода «конец истории» (Ф. Фукуяма).
Демократия тесно связана с либерализмом не только как бытийная ценность, ценность сама по себе, но и по важной практической причине. Главная цель либералов — обеспечение мира и сотрудничества людей, исключение войн, революций и восстаний. Любая иная форма правления, кроме демократии, означает власть над людьми помимо их воли и согласия. То есть ведет в конечном счете к принуждению, конфликтам и насилию, к разрушению гражданского мира. Только демократия обеспечивает работу правительства с согласия и в интересах народа, а смена власти носит в условиях демократии мирный, ненасильственный характер. Тем самым демократия является неотъемлемым либеральным принципом и в полной мере позволяет решать основные задачи либерализма.
Либерализм — практическая программа достижения мира во всем мире.
Либерализм стремится обеспечить мирное сотрудничество людей не только между собой в рамках семьи, города и государства, но и в отношениях между народами. «Либерал питает отвращение к войне… потому, что она ведет только к пагубным последствиям» (Мизес). Экономический и социальный прогресс требует разделения труда и свободного обмена информацией, товарами, услугами и идеями. Война разрушает разделение труда и свободный обмен, ухудшая тем самым положение всех сторон конфликта. Поэтому либеральная программа неосуществима без мирного сотрудничества наций. Соперничающие с либерализмом доктрины, такие как социализм, национализм, протекционизм, империализм, этатизм, милитаризм, религиозный фанатизм и проч., каждая со своей стороны обосновывает и воздвигает барьеры для мирного обмена и сотрудничества людей, предлагая им ту или иную форму войны (классовой, культурной, экономической или даже с оружием в руках). Лучшие институты и доктринальные документы, созданные и принятые человечеством после катастрофической Второй мировой войны, были вдохновлены либеральной программой всеобщего мира (ООН, Всеобщая декларация прав человека и др.).
Как можно объяснить такую черную неблагодарность человечества по отношению к своему скромному и недооцененному благодетелю — либерализму? Людвиг фон Мизес выводит антилиберальные доктрины и отношения из психологии, так как рационально объяснить отрицание либерализма невозможно.
Психологические корни антилиберализма — обиды и неврозные состояния, связанные с крушением человеческих планов и надежд. Жизненные неудачи, несоответствие надежд реальности толкают людей в мир иллюзий и эмоций. Они стремятся снять с себя ответственность за собственные неудачи и переложить вину на внешние обстоятельства, на сложившуюся «систему». Это стимулирует поиск врагов, «виновных» в проблемах отдельного человека и общества в целом. Часто врагом человеческого благополучия объявляется либерализм.
В наши дни такого рода психологические состояния оказывают сильное воздействие на умонастроения и практическую политику. Можно выделить три основных страха, подпитывающих антилиберальные настроения и политические программы: страх перед конкуренцией, страх перед культурными изменениями и страх перед ответственностью.
По мере того, как производство, обмен и инновации приобретают все более всемирный характер в процессе глобализации, конкуренция обостряется. Люди в разных частях мира в силу разных причин время от времени проигрывают конкуренцию, теряют работу и доходы, что делает многих из них сторонниками протекционизма, запрета миграции, строительства стен на границах между государствами.
С рациональной точки зрения протекционизм, ограничение миграции и стены на границах со временем ухудшат положение самих этих людей, однако в каждый конкретный момент негативные эмоции берут верх, обеспечивая поддержку правопопулистских, изоляционистских партий и политиков (что и произошло в США с выбором президентом Д. Трампа).
Другая движущая людьми эмоция — страх перед культурными изменениями. Вообще, страх перед другим, незнакомым, чужим, по-видимому, является неотъемлемым свойством человеческой природы. Тем более когда речь идет о массовом притоке мигрантов с другой верой, образом жизни, цветом кожи, разрезом глаз и кухней. Либерализм не видит никакой проблемы в культурном разнообразии человеческого общества, главное для него — мирное сотрудничество всех людей, составляющих в совокупности единое человечество. Тем не менее страх перед культурными изменениями — второй важный источник антилиберальной консолидации граждан вокруг правопопулистских партий (в нем главная причина Брекзита, как и успеха партии В. Орбана в Венгрии).
Наконец, либерализм прочно увязывает между собой свободу человека и его ответственность за собственную жизнь и судьбу, защищая при этом принцип обязательной общественной помощи тем, кто не может обойтись без нее в силу непреодолимых обстоятельств.
Однако даже многие полностью здоровые и дееспособные люди психологически не могут принять на себя всю полноту ответственности за свою жизнь, требуя специальной заботы и поддержки от общественных структур — прежде всего от государства. Страх перед конкуренцией и ответственностью —психологический источник популярности левых программ и авторитарных политических режимов, то есть такого общественного устройства, при котором человек в значительной мере снимает с себя ответственность как за материальное обеспечение себя и своей семьи, так и за определение политики государства (случай России и многих других авторитарных государств).
Парадоксальным образом динамичное развитие либерализма в масштабах всего мира, несущее человечеству прогресс, мир и процветание, одновременно усиливает экономические обмены, миграцию, конкуренцию, рост культурного разнообразия, личное чувство незащищенности многих людей — и тем самым каждый новый успех либерализма усиливает страхи перед конкуренцией, культурными изменениями и растущей ответственностью. Либерализм требует от каждого большей отдачи и большего волевого усилия, на что не согласны и к чему не готовы очень и очень многие. Либерализм делает мир лучше, но в определенном смысле сложнее и труднее. Он толкает многих в «старое доброе время»— время защиты от конкуренции и разнообразия, эпоху отеческого патронажа со стороны государства.
Успехи либерализма провоцируют тем самым его кризис во всех его бесчисленных современных проявлениях. Либеральный «конец истории» далеко еще не наступил (по крайней мере, пока). Силы, противостоящие либерализму, консолидируются и даже переходят в наступление. Каждый их успех будет означать «проедание капитала» (Мизес), делать человечество беднее, увеличивать страдания и несвободу людей, провоцировать конфронтацию внутри и между государствами, гонку вооружений и даже войны. Увы, рациональное понимание бедствий, создаваемых антилиберальной политикой, далеко не всегда может совладать с испуганной психикой как отдельных людей, так и человеческих масс. Либералы в этих обстоятельствах должны смело встречать вызовы либеральной программе, уметь рационально объяснять их, настойчиво предлагая людям наилучшие решения современных проблем.
Для этого в первую очередь необходимо широкое публичное обсуждение проблем и их возможных решений, а также свободная дискуссия о разнообразных вызовах современности. В такой дискуссии должны открыто столкнуться аргументы самых разных доктрин, включая радикально антилиберальные. Сила либерализма — в его рациональном подходе, в глубоком понимании природы человека и общественных отношений. За спиной либерализма — важные услуги, уже оказанные им человечеству. Впереди у либерализма — выработка жизнеспособных программ разрешения таких общечеловеческих проблем, как огромное имущественное неравенство и неравенство стартовых возможностей, отставание в развитии стран и целых континентов, а также необходимость более ответственного и справедливого использования общественных благ, например природной среды (А. Сен. Развитие как свобода).
Московское представительство немецкого либерального Фонда Фридриха Науманна совместно с российской независимой экспертной группой «Европейский диалог» приняли на себя часть ответственности за организацию такой дискуссии. Они подготовили и провели в Москве в 2017– 2018 годах серию семинаров, посвященных основным современным вызовам либерализму. Руководителями проекта «Вызовы современному либерализму и современные либеральные ответы» выступили глава Московского офиса Фонда ( в 2012-2020 годах) Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен и российский либеральный политик, профессор НИУ ВШЭ историк и член Координационного совета Экспертной группы «Европейский диалог» Владимир Рыжков.
Всего состоялось 13 семинаров, в которых приняли участие 70 ведущих либеральных экспертов из России и Европейского союза — историков, политологов, политиков, журналистов, экономистов, социологов. Каждый семинар был посвящен одной из ключевых проблем современной либеральной политики, поискам новых либеральных аргументов по объяснению и преодолению этих проблем. Участники московских дебатов ставили перед собой задачу прояснить современный либеральный подход к основным вызовам времени, а также предложить обществу привлекательную либеральную программу современности.
Дискуссии оказались столь острыми и содержательными, что организаторы проекта решили переработать эти материалы, с тем чтобы в виде тематических статей собрать их в большой книге о современном либерализме.
Эта книга перед вами. Хочется надеяться, что предлагаемые в ней новые либеральные подходы и аргументы смогут не только вызвать интерес, но и оказать посильную помощь как либеральным политикам и партиям, как и отдельным гражданам в их борьбе за продвижение свободы во всех обществах и во всем мире. А также помогут противникам либерализма отказаться от многих мифов и глупых наветов в его адрес и убедиться в том, что его главная цель — искреннее служение общему благу наилучшим из всех возможных способов.
Для семинаров (и, соответственно, для книги) было отобрано 11 острых проблем современности, одновременно вызовов для современного либерализма. Перечислим их.
Первый семинар был посвящен текущему кризису либеральной демократии как общественно-политической системы и тому, что прежде всего должен предложить либерализм как политическая программа для XXI века (автор соответствующей статьи в книге В. Рыжков). За ним последовали дебаты о либеральном подходе к социальному государству (Е. Гонтмахер); о либерализме, нации и национализме (Э. Паин, В. Рыжков); вызовах экономическому либерализму (Е. Гонтмахер); взгляде либерализма на централизацию, децентрализацию и федерализм (А. Захаров); либеральном подходе к свободе и регулированию в Интернете (А. Солдатов); либеральном подходе к миграции (В.Мукомель); современном взгляде либералов на права человека (Ю. Джибладзе); либеральном подходе к культуре и культурным войнам (А. Голубовский); об отношениях либерализма и религии (С. Чапнин); о либеральном подходе к международным отношениям, к вопросам войны и мира (В. Рыжков).
Для целей данного проекта было принято решение организовать дебаты внутри либеральной перспективы, то есть без приглашения носителей других доктрин и идеологий. Это объясняется не стремлением исключить кого-то из дебатов, а тем, что сам современный либерализм чрезвычайно разнороден, разделен на множество течений (от леволиберального до праволиберального), и поэтому требуются отдельные усилия, чтобы разобраться с этим разнообразием, выделить общие основания современного либерализма применительно к острым проблемам современности.
На каждом семинаре выдвигались самые разные, порой противоречивые аргументы и идеи. Все они при этом оставались в рамках общей широкой либеральной перспективы. Для сохранения этого обладающего самостоятельной ценностью плюрализма мнений было принято решение при подготовке книги сохранить все разнообразие позиций и доводов участников дебатов.
Авторы статей, будучи сами участниками обсуждения со своей личной позицией, тщательно проработали материалы дебатов, бережно сохранив для читателей все самое ценное и интересное.
Каждый семинар и каждая статья в книге в конечном счете приближают нас к пониманию и формулированию успешной либеральной программы для XXI века. Проверка либерального подхода самыми сложными проблемами современности в открытой дискуссии показывает в полной мере его силу и жизнеспособность.
Сложно сказать, действительно ли либеральная демократия находится в глобальном (всемирном) кризисе или же речь (пока) идет о сильных атаках на нее и не более того. Атаках, неспособных всерьез подорвать «конституцию свободы». Так, подъем правопопулистских и антиевропейских сил в Центральной и Восточной Европе1, по мнению Красена Станчева, не может отменить главного состоявшегося факта истории: реальный транзит стран ЦВЕ от коммунизма к европейской либерально-демократической и рыночной системе совершился, и этот стратегический выбор народов останется низменным. Предпочтительным вариантом либерализма для нового столетия, по мнению Ю. фон Фрайтаг-Лорингховена и М. Урнова (как и нобелевского лауреата А. Сена), является социальный либерализм, ориентированный прежде всего на достижение равенства стартовых возможностей и высокие (не узкоинструментальные) ценности.
Для России важнейшая задача — формирование сильной либеральной элиты, в отсутствие которой движение страны в направлении либерализма останется неосуществимым. Общество в отдельных странах и во всем мире в XXI столетии станет сложнее, чем в прежние времена, что, по мнению А. Вишневского, сделает либерализм еще более необходимым для обеспечения мирного сотрудничества людей.
Либерализм не избавляет людей и общества от ошибок, порой очень серьезных, но в либеральной системе ошибки исправляются легче, с меньшими издержками, чем в любых других, напоминает Е. Ясин: «…либерализм — это жизнь с большей прибылью и с бóльшим удовольствием». Одного этого достаточно для его привлекательности и жизнеспособности.
Кризис созданного после Второй мировой войны «социального государства» (государства всеобщего благосостояния) вызван растущим бременем расходов на него, все менее посильных для экономик и бюджетов (государственные долги продолжают драматически возрастать). Он также выражается в системе негативных стимулов для людей и растущих бюрократическом монополизме и всевластии.
Рост госдолга, монополизм и всевластие государства в социальной сфере противоречат либерализму и требуют либеральной альтернативы. Либеральный подход к социальному государству заключается в том, чтобы рассматривать его не как систему собеса (материальной помощи со стороны государства, раздачи чиновниками денег иблаг), но как систему стимулов для роста благополучия всех слоев населения, развития свободы и гибкости общества, как развитие возможностей людей и человеческого капитала, создание «сетки социальной безопасности» (Е. Гонтмахер).
Либеральное решение заключается в создании широкой сети альтернатив — на базе местного самоуправления, общественных инициатив и ассоциаций. Социальное государство тоже должно быть свободным, что сделает его и более эффективным (С. Тамм).
Модель социального государства нуждается в серьезной коррекции еще и потому, что общество XXI века кардинально отличается от прежних моделей общества — его социальная структура сама по себе нуждается в переосмыслении, описании и соответствующей политике, нацеленной на достижение общественного блага.
Основной инструмент для создания более прочной «сетки социальной безопасности» для либералов не раздача государственных пособий, а акцент на качественное и доступное всем образование, основу равных возможностей (С.И. Хан). Сравнительно новая и модная идея введения «базового дохода»для всех граждан может, при умелом воплощении, стать частью либерального ответа на кризис социального государства. Она в состоянии помочь людям избавиться от страха лишиться привычных жизненных условий и одновременно позволит сохранить стимулы для работы и творчества на конкурентном рынке труда. В любом случае успешная модель социального государства может быть найдена только в условиях существования пространства публичной дискуссии, демократии, свободы слова и мнений, когда представления о справедливости, общественном благе и наилучшей социальной политике и роли государства вырабатываются и принимаются самим обществом (А. Сен).
Э. Паин показал, что привычное противопоставление либерализма и национализма (либерализм всегда выступает против национализма, а национализм — природный враг либерализма) хотя и имеет немало оснований и практических подтверждений, на самом деле является искусственным. Такой, несомненно, либеральный и потому космополитичный подход был бы верен в условиях отмирания наций и государств, формирования общемирового гражданского общества и сформированного им мирового правительства (в видении Мизеса). Однако реальность совершенно иная.
Национальные государства и их основа — нации остаются основным структурным элементом современного мира. Их значимость, вопреки недавним прогнозам об отступлении государства под ударами волн глобализации, сохраняется, если не возрастает. Это, в свою очередь, означает, что либералам предстоит обосновать свободу и развитие в условиях сохранения сложного мира многообразных наций и государств. Это возвращает либералов к идеям Канта о вечном мире, возможном только между республиками (государствами народного суверенитета), мирно сотрудничающими на основе внутригосударственного и международного права.
Таким образом, дело защиты гражданского мира внутри национальных государств, как и дело защиты мира во всем мире, в решающей степени зависит от перспектив утверждения либеральных демократий в современных государствах. Большинство из этих государств являются национальными (суверенитет в них принадлежит их гражданским нациям). Национальное государство должно пониматься либералами как согражданство, как республика, как общество, «овладевшее государством» (К. Дойч), а нация — не как этнос или культурное сообщество, но как политическое сообщество ответственных и равных граждан. Гражданская нация в такой оптике не противостоит либерализму, но является его основополагающей предпосылкой.
Гражданский (конституционный) национализм (в противоположность этнокультурному или национально-имперскому, как в России) является важной составляющей либерализма в мире национальных государств. Демократия может сосуществовать с либерализмом только на основе правового порядка, защищающего права и свободы человека, в институциональной рамке правового национального государства. Социальная основа либеральной демократии — гражданское общество, наделенное гражданской культурой участия.
В России гражданское общество жестко подавляется государством, и именно это тормозит становление российской гражданской нации, а значит, и формирование либеральной демократии (сформировался монстр — «уже не империя, но еще не нация», по словам Э. Паина). Россия повернута к старым имперским практикам и порядкам, что предопределяет обостряющийся «кризис постимперского порядка», чреватый в перспективе новым распадом государственности. В Европе же кризис либеральной демократии объясняется эрозией сложившихся гражданских наций, вызванной сегментацией обществ, отрывом от людей космополитических элит, сокращением гражданского участия в общественных делах. Если в России перспективы либеральной демократии (и, возможно, самого сохранения государственности) будут зависеть от успеха формирования российской гражданской нации, ее способности «овладеть государством» в общенациональных интересах, то Европе требуется прежде всего восстановить и укрепить единые гражданские нации на конституционной основе, что станет прочной предпосылкой и для многонационального европейского единства.
Экономическому либерализму в наши дни угрожают, по мнению Д. Травина, три основные опасности: непомерно разросшееся государство всеобщего благосостояния, доминирование государственной собственности, протекционизм во внешней торговле. Если социальное государство сократить невозможно по причине действий демократии и избирателей, требующих «большого государства», а доля госсобственности и так постепенно сокращается во всем мире (Россия — значимое исключение), то вызов протекционизма требует от либералов активной борьбы. Протекционизм ведет к росту цен и ухудшает жизнь людей. Это дает либералам возможность заключить союз с профсоюзами и левыми партиями — союз против протекционизма, несущего людям потери.
Дополнительные опасности для либеральной экономической политики заключаются в быстром наращивании центральными банками денежной массы и в доминировании левых идей даже в среде современных профессиональных ученых-экономистов. Подобная интеллектуальная мода сама по себе может привести к тяжелым последствиям для экономик.
Либеральные международные институты на самом деле давно не проводят либеральную политику (МВФ, ВБ, ВТО и проч.), а государства непрерывно увеличивают регуляторную нагрузку на бизнес, что становится сегодня одним из основных препятствий для экономического и социального развития (Р. Капелюшников). Либералы должны в этих условиях ясно декларировать свои принципы, отделяя либеральную программу от политики и институтов, которые считаются либеральными, не являясь таковыми на практике.
Интернет возник как свободная информационная среда, поначалу избавленная от контроля и опеки со стороны государства. В последние же годы положение стало кардинально меняться в худшую сторону. Государства принялись создавать подробное и рестриктивное законодательство по регулированию Интернета, при том не только в авторитарных Китае и России, но и в либеральном ЕС. Поводами для введения и ужесточения контроля в Сети стали реальные и мнимые угрозы: терроризм, наркоторговля, детская порнография, преступные сообщества и проч.
При этом никакого глобального межгосударственного подхода к регулированию Интернета пока не существует, как и серьезного международного обсуждения этой важнейшей проблемы XXI века. Каждое государство или группа государств (как ЕС) пытаются создать и внедрить собственные стандарты безопасности, контроля, ответственности и свободы в Интернете. При этом авторитарные государства, включая Россию, учатся активно использовать Сеть для контроля над гражданами, слежки за ними и преследования по политическим мотивам. В России государство активно блокирует нежелательный контент и теперь перешло к преследованию граждан — распространителей этого контента. Множится число реальных тюремных сроков за публикации в Сети. Ведется тотальная слежка в Сети за миллионами людей. Также готовится попытка возведения «стены» по границам, создание так называемого суверенного Интернета. Стремление замкнуть Сеть в национальных границах характерно и для других регионов мира. Отдельной опасностью для свободы в Интернете повсеместно становится постоянное расширение зоны ответственности за нарушение авторских прав. Широко и произвольно толкуемое, оно может привести к ответственности (в том числе уголовной) практически кого угодно и за что угодно.
Либеральный подход требует отказа от столь жесткого толкования и применения авторского права.
В отсутствие общемировых правил обеспечения безопасности и свободы в Интернете либералы должны предложить свой проект свода таких правил, а также механизмы эффективного общественного (а не государственного) контроля за работой глобальных социальных сетей (И. Бороган). Если на Западе больше говорят о киберугрозах и кибербезопасности (то есть преимущественно о технических аспектах безопасности), то в России власти делают акцент на информационной безопасности, то есть на цензуре контента и преследовании нарушителей.
Человечество пробует использовать три пути регулирования Интернета: законодательное регулирование, как в России; саморегулирование, как по преимуществу делается в США; и совместное регулирование, как в Германии (А.-К. Ридель).
Сочетание мягкого государственного регулирования с саморегулированием может быть удачным либеральным рецептом для будущего Интернета, гарантирующим как общественную безопасность, так и свободу и приватность в Сети. Дополнительной защитой интернет-свободы становится широкое распространение мер технической защиты, таких как переход на шифрованные протоколы и проч. Государства же должны использовать Интернет не для политической цензуры и слежки за гражданами, а для повышения эффективности административных процедур, развития электронной демократии, обеспечения прозрачности власти (А. Исавнин).
Миграционный кризис спровоцировал ослабление широкого либерального консенсуса в государствах Европейского союза, подъем ксенофобии, национализма и правого популизма. Общий либеральный принцип состоит в полной свободе передвижения людей, но при этом не отрицает правового регулирования миграции. В XXI веке следует исходить из того капитального факта, что масштабы перемещения людей по планете будут только возрастать и, безусловно, намного превзойдут нынешние рекордные цифры — сейчас число мигрантов в мире насчитывает около 250 млн человек (А. Вишневский).
Обещания политиков-популистов остановить миграционный приток на практике неосуществимы, а возможности государств его регулировать — крайне скромны. Российская ситуация особая — имея огромную территорию и слабую демографию, страна нуждается не в отталкивании, а в активном привлечении возможно большего числа мигрантов. Либеральная политика в XXI веке должна фокусироваться не на попытках остановить или зарегулировать миграцию, рост которой, повторимся, неизбежен, а на интеграции, адаптации, вовлечении мигрантов в общественные дела, с тем чтобы уже второе их поколение было полностью интегрировано в общества либеральных демократий. Основная опасность не приток мигрантов, а социальная их исключенность, что и порождает распад гражданских обществ, рост экстремизма и терроризма, ослабляет гражданскую солидарность и перспективы экономического роста.
Германские либералы делают акцент на улучшении жизненных условий и условий мира в странах, откуда прибывают мигранты, а также на правовом регулировании миграции. Цель либерала применительно к миграции та же, что и к любому другому вопросу.
Мигранты — это прежде всего люди, и долг общества не рассматривать их как инструмент развития или тем более как проблему, а создать им все возможности для того, чтобы быть счастливыми. Для России основой либеральной миграционной политики должна стать простая легализация и защита прав мигрантов, как и их активная интеграция в общество (В. Поставнин).
Миграция не расшатает и не уничтожит свободные общества либеральных демократий Европы, но, напротив, укрепит их (Ш. Шлегель). Миграция — неизбежная сторона глобального мира, и смотреть на нее нужно позитивно.
Общий либеральный подход к миграции таков: государство не вправе вмешиваться в индивидуальное стремление людей к счастью. Люди сами вправе решать, в какой стране им жить и чем заниматься. Существует положительная взаимосвязь между ростом торговли, глобализацией и миграцией. Либералы должны предложить дорожную карту либерализации миграционной политики и показать обществу все выгоды от ее реализации. Невозможно сохранить внеизменности «культурную идентичность» принимающих обществ. Либеральное решение проблемы идентичности может заключаться в «конституционном патриотизме», в защите равенства и прав каждого человека институтами правового либерального государства. Либеральное иммиграционное законодательство не может не быть правозащитным: хорошо защищенные, надежные права для мигрантов, предсказуемая правовая среда (В. Мукомель).
Начало XXI века — трудное время с точки зрения прав человека. Во многих странах, включая Россию и даже ряд стран ЕС (Венгрия, Польша), идет активный откат от их соблюдения. Международные режимы и структуры по защите прав человека (Совет Европы, ОБСЕ, ООН и др.) имеют мало власти для принуждения государств к соблюдению прав человека и плохо справляются с их защитой. Усиливаются тенденции к криминализации деятельности правозащитников и оппозиции (Г. Баум) посредством принятия и применения законодательства о противодействии терроризму и экстремизму. Борьба государств за безопасность — основной в наше время предлог, который они используют для нарушения прав и свобод человека. Права человека страдают и от снижения авторитета стран-лидеров, либеральных демократий — эталона соблюдения таких прав (Ю. Джибладзе).
Либеральный подход состоит в твердом требовании соблюдения государствами своих публичных обязательств (закрепленных в конституциях и международных договорах) по защите прав человека. Он предусматривает применение санкций, включая экономические, к государствам-нарушителям. Попрание прав и свобод человека в XXI веке должно дорого обходиться нарушителям. Западный бизнес не должен поставлять технологическое оборудование, применимое для слежки и репрессий, в авторитарные государства. Необходимо создать универсальную юрисдикцию и механизмы преследования нарушителей прав человека.
Культура для либерализма — область абсолютной свободы. По этой причине враги либерализма так остро атакуют свободу культуры, а либерализм — подлинный защитник последней. Все прочие политические и религиозные доктрины стремятся так или иначе определить «правильную» культуру, предписать художнику и творцу, что и как ему делать. В России в последние годы фактически возрождена государственная «культурная политика» (и цензура), случаются и культурные погромы со стороны «патриотической общественности». В ЕС культура, как правило, поддерживается государством, но при этом твердо соблюдается принцип художественной свободы. Это установлено в конституциях и соответствующих законах.
Многие государственные учреждения культуры (музеи, театры и проч.) финансируются государством, но направляются институтами гражданского общества (наблюдательным и попечительскими советами). Участие гражданского общества в культурной политике — ключевой аспект либеральной культурной позиции.
Культура может финансироваться как государством, так и меценатами из среды частного бизнеса. При этом ни первое, ни вторые не могут диктовать художнику содержание и форму его творчества. Гарантами культурной свободы должны быть право и гражданское общество. При этом сама культура, а не государство или магнаты является субъектом и источником культурной политики (А. Голубовский). Государственные институты поддержки культуры (такие, как министерства культуры) должны создавать условия для свободного творчества, но не быть инструментами содержательного управления и идеологического контроля. Либеральный подход требует радикальной децентрализации культурной политики, приближения ее к региональным и местным гражданским сообществам.
Религия, церковь, религиозный традиционализм и фундаментализм — еще одно направление, с которого атакуется либерализм. Он обвиняется в разрушении морали и традиционных ценностей, воинствующем атеизме, даже в растлении общества. Все эти обвинения абсурдны. Либерализм вырос из борьбы за свободу совести, именно он надежно защитил право людей свободно верить и молиться, как и свободу отказа от религии.
Либерализм принципиально выступает как за свободное исповедование религии, так и за недопустимость слияния церкви и государства, насаждения одной религии или церковной организации.
В XXI веке проблема отношений свободы и веры, государства и церкви остается по-прежнему остро актуальной. Она требует к себе внимания практически повсюду — от России, Польши, Венгрии до США, не говоря уже об исламском мире. Никуда не ушла острота дебатов и даже конфликтов между различными религиями. В этой связи первый либеральный ответ — сохранение и защита свободы совести и обязательный диалог между верующими, атеистами и разными религиями. Такой диалог возможен только на нейтральной почве — в рамках правового конституционного светского государства (Е. Степанова).
Политизация религии, превращение ее в инструмент политической борьбы неприемлемы, так как разрушают гражданский мир и конституционные основы либеральной демократии. Политизация Русской православной церкви, превращение ее в часть властной вертикали искажает природу церкви и создает для нее трудноразрешимые этические и религиозные проблемы. Демократизация церкви прервана, миряне оторваны от иерархии, даже в самой иерархии невозможна сегодня свободная дискуссия (С. Чапнин).
С современной богословской точки зрения противопоставление свободы и веры является ложным.
История знает немало примеров, когда религия борется за свободу: первые христиане, польская католическая церковь коммунистического периода, христианские конфессии в ГДР и многие другие. В ГДР многие христиане были верующими демократами, сторонниками свободы (А. Хоффманн). В современной Германии церкви отделены от государства, но их взаимодействие признается общественно полезным и строится на началах сотрудничества. Церкви открыто высказываются по общественно важным вопросам, стремясь к гуманизации политики и общества. Религиозные сообщества не отстраняются от жизни, но стремятся внести свой вклад в общественное благо. Они наводят мосты между людьми.
Религия привносит в общество тему ценностей, милосердия и значимости каждой личности, смыкаясь в этой части с либерализмом.
Распространение либерализма в мире уменьшает число конфликтов и войн, способствует мирному сотрудничеству людей, улучшает их жизнь. Все прочие доктрины и политические программы (протекционизм, агрессивный национализм, милитаризм и проч.), напротив, разрушают сотрудничество людей и являются угрозой прочному миру. Защита мира требует не опасной «Большой игры» великих держав в рамках представлений об основанном на силе «реализме», но влиятельного международного права и многосторонних структур сотрудничества. Должен сложиться основанный на ценностях международный «общественный договор», с передачей части государственного суверенитета на наднациональный уровень ради защиты прав человека, сотрудничества и безопасности (Ж.-П. Фрёли).
Либерализм защищает человека от посягательств государства, но государства остаются основными институтами защиты прав и свобод, что означает необходимость распространения либеральных демократий.
При всей справедливости критики сложившихся международных структур по защите безопасности, сотрудничества и прав человека (ООН, ОБСЕ, Совет Европы и др.) в отношении их недостаточной эффективности, альтернативы им нет. Либерализм призывает уважать эти структуры и бороться за расширение их полномочий. Отказ от сложившихся международных режимов и правил будет означать скатывание мировой политики к «праву сильного», что в корне противоречит либерализму (Е. Алексеенкова).
Больше всего от распада существующего международного порядка могут пострадать Россия и ЕС. Международные порядки и институты играли и играют исключительно важную роль в поддержании мира и сотрудничества, их необходимо сохранять и усиливать, рассказывая людям о той пользе, которую они продолжают приносить ежедневно (С. Уткин, А. Загорский, С. Ознобищев).
Российское руководство должно ясно сознавать, что международные структуры, в которых Россия играет важную роль, служат ее подлинным национальным интересам, и не предпринимать шагов по их расшатыванию и тем более выходу из них (как в случае с Советом Европы).
Будущее мирного сотрудничества людей будет зависеть от распространения либеральных демократий. В свою очередь, сами либеральные демократии должны показать успешный пример преодоления своих внутренних трудностей, чтобы быть в состоянии оказывать активную помощь либеральным преобразованиям по всему миру (А. Загорский).
Разумеется, круг проблем и вызовов, с которыми сталкивается современный либерализм, намного шире, чем те, что были обсуждены в рамках проекта «Вызовы современному либерализму» и представлены в этой книге. Можно упомянуть такие вопросы, как продвижение либеральных программ и партий, либеральная риторика, либерализм и право, либерализм и окружающая среда, либерализм и имущественное неравенство, либерализм и гендерный вопрос, либерализм и гражданское общество, либерализм и культурное разнообразие, как и многие другие.
Однако мы надеемся, что внесли свой вклад как в создание публичного пространства дискуссии о целях и средствах общественного развития, так и в выработку новых либеральных подходов и ответов на острые вызовы нашего времени.
Ведь мы убеждены, что либерализм — наилучшее решение для человечества в XXI веке.
и следите за обновлениями!
Что значит либерализм в XXI веке?
Руководитель бюро Фонда Фридриха Науманна в России (в 2012-2020 годах)
Он обучался политическим наукам, философии и экономике в Мюнхене и получил ученую степень магистра в области политической стратегии и коммуникации в Кентском Университете. Также был советником либерального депутата Европарламента.
Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен, руководитель Фонда Фридриха Науманна в России (в 2012-2020 годах), признает, что либерализм в наши дни находится в кризисе. Прежде всего речь идет об ослаблении международных либеральных институтов. Великобритания приняла решение о выходе из институтов Европейского союза, наблюдается конфронтация между национальными государствами и международными институтами и на других уровнях. Во многих обществах укрепляются антикапиталистические, антиглобалистские, антиинтеграционные настроения. В частности, такие настроения продемонстрировал электорат Дональда Трампа в США. Трамп, став президентом на волне таких настроений, стремится отменить или кардинально пересмотреть сложившиеся международные соглашения по торговле.
В единой Европе правые популистские движения стремятся заново укрепить власть национальных государств — в ущерб евроинтеграции, грозятся даже вовсе разрушить Европейский союз. Вдобавок к этому мы переживаем кризис рыночной экономики. На многих рынках финансовые кризисы, которые привели к снижению жизненного уровня людей повсюду — от Европы до России, что также усилило правопопулистские партии. В Германии партия «Альтернатива для Германии» (AfD) на федеральных выборах впервые сформировала крупную фракцию в Бундестаге. Все это требует от либералов переосмыслить свои действия в экономической сфере.
При этом вряд ли стоит всерьез говорить о переоткрытии или переизобретении либерализма. У него есть очень сильное и при этом неизменное ядро ценностей и идей, и главные из них — индивидуальная свобода и индивидуальная ответственность человека, индивидуальная, а не коллективная идентичность, высокое человеческое достоинство. На протяжении столетий именно это идейно-ценностное ядро отличало либерализм от его исторических соперников, таких как социализм с его приоритетом материального равенства и коллективной идентичности, а также консерватизм с его акцентом на стабильности и безопасности, причем общество здесь понимается как коллективистское(органическое «народное тело»), а государство при этом как национальное. Соответственно своим базовым ценностям либерализм в большей мере сфокусирован на создании и защите условий для индивидуальной свободы и потому, между прочим, высказывается за более сильное и эффективное государство, которое обеспечивает свободу индивидуального выбора и ответственность.
Кроме того, современные либералы добавляют новые краски в либеральную программу. В частности, выступают за то, чтобы государство стремилось обеспечить людям равенство возможностей на старте их карьеры, для чеготребуется бесплатное и доступное для всех желающих качественное образование. Но и здесь, в отличие от социалистов, для либералов главное не материальное равенство и коллективная идентичность, а создание возможностей для индивидуальной самореализации, поощрение самостоятельных решений людей.
Отдельным и своеобразным вызовом либерализму становится его правая версия, восходящая к классическому либерализму XVIII века, часто еще называемая либертарианством в его американской редакции. Правый либерализм делает основной акцент на свободных договорах между субъектами рыночных отношений, ставя в центр внимания рынок, а не либеральную демократию. Любые интервенции государства должны быть максимально ограничены в пользу индивидуальной свободы. Проблема, однако, в том, что такая версия либерализма представляет собой опасность для либеральных международных режимов и, кроме того, на практике зачастую ущемляет индивидуальные свободы в пользу крупных корпораций или привилегированных слоев.
Признавая реальность всех этих вызовов и кризисов, не следует тем не менее переизобретать либерализм. Напротив, нужно еще решительнее защищать принципы либерализма в международных отношениях и институциях, не давая им отходить от принципа верховенства права, создавая условия и рамки, в которых каждый может делать свой собственный выбор. Нужно защищать принцип субсидиарности, когда решения принимаются на возможно более низком, приближенном к людям уровне власти. На международном уровне нужно фокусироваться на равенстве условий и возможностей для всех, на честных правилах игры, на действенности международных законов, регулирования и на силе международных институтов. В экономике нужна поддержка свободы рынка и конкуренции на основе индивидуальной свободы и ответственности.
В полной мере сохраняет актуальность и силу принятый Либеральным интернационалом в 1947 году Оксфордский манифест, согласно которому либерализм исходит из того, что свобода и индивидуальная ответственность есть основа основ гражданского общества. Что государство есть лишь инструмент, служащий гражданам. Что любое решение государства должно уважать принцип демократической подотчетности. Что конституционная свобода основана на принципе разделения властей. Что правосудие должно быть быстрым, открытым и свободным от любого политического воздействия. Что контроль государства в экономике и рыночные монополии являются угрозой для политической свободы. Про соотношение между демократией и либерализмом очень коротко можно сказать так: либерализм — это принцип защиты самого маленького меньшинства, индивидуала.
Либерализм обеспечивает гарантии индивидуальной свободы. Либеральная идея — это защита демократии от стад охлократии.
Эти и другие классические принципы либерализма должны оставаться неизменными во имя процветания и мира. Все, что нам нужно сегодня, — научиться находить в свете этих незыблемых принципов конкретные либеральные ответы на конкретные вызовы современности, а не пытаться изобрести либерализм заново.
Адъюнкт-профессор Университета Софии, председатель правления Института рыночной экономики (IME)
К концу 1990-х годов люди на востоке Европы уже вкусили от основных плодов демократического и рыночного транзита. Политическая конкуренция радикально изменила политические партии. У так называемых реформистских партий (реформированных бывших коммунистических) была сложная история, но при этом они не сопротивлялись введению рынка и частной собственности. Они даже радовались возвращению (реституции) собственности бывшим владельцам (существовавшей до прихода к власти коммунистов в 1940-е годы). Например, в Болгарии бывшим владельцам была возвращена практически вся собственность, отнятая в советский период, включая леса. Во всех этих странах практически не было оппозиции демократическим и рыночным реформам, а право частной собственности довольно рано было закреплено в их конституциях.
Все реформистские партии ЦВЕ были едины в том, что интеграция в ЕС и НАТО есть нормальный, естественный путь возвращения в Европу, более того — возвращения в нормальность. Так думало и население этих стран. Однако, когда правительства реформистов занялись выполнением требований ЕС по подготовке к вступлению в Союз, они позабыли о многочисленных проблемах на местном уровне. Тем не менее примерно в 1996–1997 годах все эти страны сумели восстановить свои экономики до докризисного уровня, но уже на новой рыночной основе. Сильно изменилось образование. С новыми дипломами у восточноевропейцев появилась возможность работать на западе Европы. Укрепилась общая свобода передвижения по континенту. Люди начали активно путешествовать и переезжать на новое место жительства. При этом социальное государство, оставшееся от времен социализма, нигде не было демонтировано.
Таким образом, конкуренция политических партий проходила в обстановке сокращения доходов государства, старения населения и массового отъезда молодежи за рубеж. На таком социальном фоне в ЦВЕ появились и набрали силу новые популистские партии — намного раньше, чем это произошло в Западной Европе или в США. Старые реформистские партии и их лидеры тем временем были больше заинтересованы в карьере в Брюсселе и теряли поддержку населения своих стран.
Их потеснили новые партии, с их несколькими очень простыми идеями. Государственный экономический интервенционизм. Ксенофобия. Очень примитивный взгляд на мир, согласно которому американцы выступают против европейцев, а в Европе Север борется против Юга. А еще — Россия сражается против Запада. Все эти простые идеи, в свою очередь, лишь усиливали ксенофобию. Программы популистских партий — причудливые сборники мифов относительно политики и экономики. И покуда старые реформистские партии занимались скучными технократическими досье, присланными из Брюсселя, новые популисты занимали их место во власти. Это произошло еще до катастрофы 9/11 и массового притока мигрантов в Европу. При этом, в отличие от России, в странах ЦВЕ не сложились олигархические режимы. Это объясняется главным образом частой сменой правительств — ни одно из них просто не успело, хотя и пыталось, создать и укрепить позиции «своих» олигархов.
В общем и целом, исторический переход на востоке Европы к рынку и демократии состоялся. 80% всех доходов от торговли и инвестиций в странах ЦВЕ поступают от торговли и инвестиций внутри ЕС. Даже Болгария, прежде ориентированная исключительно на СССР, полностью переориентировалась на рынки ЕС. Люди, голосуя за популистов, забывают об этом. Что ж, любое статус-кво строится на способности людей забывать.
Доктор философских наук, Институт философии РАН
Специализируется на социальной и политической философии, истории российского либерализма
Невозможность осуществить либеральную демократию объясняется тем, что либерализм не в состоянии перевести либеральные ценности в успешную политическую риторику. Проблема либерализма — это проблема мировоззрения, ценностей, если угодно политической философии. А проблема либеральной демократии — это, конечно, не только риторика. Это в первую очередь институты, механизмы взаимодействия, обратной связи государства с обществом, электоральная политика, наличие политических партий, массмедиa и т.д.
В истории России вообще не было периодов либеральной демократии — когда либеральные ценности победили бы демократическим путем. Этого не случилось ни при выборах в Учредительное собрание в 1917-м, ни в 1990-е годы, когда в России произошла антикоммунистическая революция — в известной степени демократическая, которая принесла Россия нам некоторые либеральные завоевания, но называть это победой либеральной демократии нельзя.
Если взглянуть на современную Европу, то наиболее безболезненно вопрос об утверждении либеральной демократии решила Великобритания — Англия, которая с либеральным проектом Джона Локка (XVII–XVIII века) сумела наладить механизмы трансляции либеральных свобод, которые раньше были чисто аристократическими, на все более и более широкие круги населения. Таким образом, в Англии произошла постепенная демократизация либерализма, которая притом протекала достаточно безболезненно. Даже нынешний Брекзит не что иное, как победа одного из двух либеральных проектов — британского и европейского. Поэтому ничего фундаменталистского, никакого отката от основ либерализма в нем нет.
Во Франции исторически случился прямо противоположный ход событий. Там наблюдалась либерализация первичной демократии, демократии-охлократии времен Великой революции, вместе с ее якобинской диктатурой, что предсказывал еще Руссо, как воплощение коллективной воли. Насыщение либеральными смыслами этой прямой демократии происходило чрезвычайно сложно, через цепочку революций, таких, что даже Париж наполовину сгорел в дни Парижской Коммуны. Это был самый настоящий охлократическй погром. Тем не менее во Франции сошлись в итоге два проекта:
1) либеральный проект Вольтера, который, кстати, был англоманом, как и Монтескье, и
2) руссоистские, социалистические, нелиберальные идеи. Произошел их непрочный синтез, и Франция до сих пор находится в подвешенном состоянии. Чья сторона (Вольтера или Руссо) возьмет — неизвестно.
В Германии, как и в России, ситуация была значительно более сложной, поскольку это был второй, или «полутретий», эшелон капитализма и модернизации, в странах которого восприятие либерализма с демократией происходило гораздо более противоречиво. Германия дала в ХХ веке страшный рецидив антилиберальной тоталитарной демократии, если вспоминать нацистские времена и всю процедуру прихода Гитлера к власти. Это закончилось установлением нацистского тоталитарного режима, но начиналось с демократических процедур при одновременном выхолащивании либерального содержания Веймарской республики. Германия, в силу известных причин, болела этим только 12 лет, а вот Россия болеет до сих пор.
В России не было периодов либеральной демократии, поэтому вопрос, как российским либералам следует транслировать в общество либеральные ценности — либо за счет риторики, либо за счет институтов, партийного строительства, либо еще как-то, — остается открытым. Применительно к современным российским либералам можно процитировать выдающегося кадета Василия Алексеевича Маклакова, который, умирая в 90 лет в Швейцарии, написал в своих последних мемуарах: «Мы хотели спасти страну, а не смогли спасти даже самих себя».
Следует честно ответить себе на неприятные вопросы. Чем мы, либералы, занимаемся? Мы хотим перестроить на либеральный лад Россию либо же мы хотим выжить в ней как либеральная субкультура?
Для последнего тоже потребуются очень серьезные усилия, потому что можно вообще исчезнуть, ставя себе максималистские задачи. Среди основных вопросов есть и такой: а существует ли антилиберальный общественный консенсус в России (в противоположность европейскому либеральному)? Что ж: он уже очень близок, но мы ему сопротивляемся. Во всяком случае, некоторые элементы серьезного либерального сопротивления удалось продемонстрировать в том числе в связи с празднованием 100-летней годовщины Февральской революции 1917 года и в других схожих случаях.
В своей борьбе либералы должны избегать разрушительных политических союзов с националистами, левыми и популистами. И помнить, что либерализм и демократия — вещи конфликтные, которые сходятся лишь при определенных общественных условиях.
Ординарный профессор, член ученого совета НИУ ВШЭ
Изучает ценностные ориентации, мотивации и стили управления для менеджеров России, Великобритании и Японии, разбирается в корпоративной культуре и иных гуманитарных аспектах функционирования крупных российских корпораций.
Что в них происходит? В Европе — низкая рождаемость и сокращение численности коренного населения. Стыд за колониальное прошлое, а в Германии еще и за нацизм. Комплекс вины за социальное неравенство в мире создает почву для разгула воинственного паразитизма мигрантов, которому моральный и какой угодно культурный релятивизм не дает возможности противостоять, мешает создать устойчивую систему общей культурной идентичности. В результате в так называемых плавильных котлах Европы начинают появляться «сплавы», которые еще лет сорок назад трудно было себе представить.
Одновременно поднимает голову радикальный ислам, который, вообще-то, начал и ведет мировую войну. Появляются новые мощные мировые центры — будущие супердержавы, притом совсем не европейского толка, — Индия, Китай. То, что в Европе, в Соединенных Штатах, да и в России, ощущается упадок Запада, хорошо видно по многим признакам, в том числе по данным социологии. Наблюдается статусный, имиджевый, ролевой, ресурсный кризис цивилизации, которая была доминирующей на протяжении многих последних столетий. Упадок культурный, который по масштабам сопоставим с закатом Римской империи. Многие обвиняют в этом либерализм. Но так ли это?
Либерализмов на самом деле много. Например, либерализм социальный, который за последние несколько десятков лет стал доминантным течением в либеральной мысли. Что он дал миру? Он с либеральной точки зрения осмыслил такие аспекты нашего бытия, как позитивная свобода и позитивные права. Предложил социальные и политические условия и механизмы, которые обеспечивали бы людям так называемые равные возможности, причем в наилучшем ихварианте, с сохранением и социального неравенства, и какого угодно неравенства на уровне индивидуальном. Это обоснованный способ реализации личности на уровне социума, обострения конкуренции, которая дает возможность лучше использовать общественные ресурсы. И наконец, социальный либерализм дал нам понять, что естественный конфликт между негативной свободой, негативными правами и позитивной свободой, позитивными правами — это не фундаментальный конфликт, а конфликт нахождения меры между ними в конкретных условиях.
Социальным либерализмом сделано очень много для современного развития и процветания. В контекст доминантного социального либерализма входят и Рейган, и Тэтчер, и социал-демократы, и очень широкий круг других центристских политических сил.
Что ему оппонирует? На самом деле серьезных содержательных оппонентов у социального либерализма нет. Но чем занимался до последнего времени наш мощный социальный либерализм? Концентрировался на инструментальных (низких, технических) ценностях, пытаясь ответить на вопрос, как можно сделать человека максимально богатым и свободным. Проблема же терминальных (высших, в том числе духовных) ценностей оставалась для либералов за бортом. И получилось, что расцвет философии и политической практики либерализма совпал с торжеством разгульного и тупого гедонизма, который во многом ответствен за многие нынешние проблемы, в том числе и за падение рождаемости. Но винить в гедонизме и в кризисе цивилизации либерализм — все равно что винить в распаде Римской империи римское право. Для этого нет никаких оснований.
Что же либералам требуется сегодня, если они действительно хотят представить альтернативу вызовам либеральной цивилизации? Либералам следует обсуждать терминальные ценности, показывая, что то, что нужно человеческой природе, не сводится к потреблению материальных благ. Возможна либеральная ревизия пирамиды Маслоу. У человека есть глубинные фундаментальные потребности, которые, если либерализм хочет быть на высоте и отвечать на новые вызовы, ему придется обсуждать. Либерализму нужно переориентировать себя с исключительно инструментальных ценностей на ценности терминальные, расширив тем самым пространство для действий, пространство для дискуссий, пространство для деятельности.
В России либералам, конечно, сложнее, чем на Западе, потому что они тащат на себе тяжелое тоталитарное бремя. Если в Европе социальный либерализм преобладает, то в России он отнюдь не в почете — слабое течение, защищающее себя от либертарианцев, с одной стороны, и от тоталитаристов — с другой.
Необходимо понять, какие терминальные ценности необходимы для того, чтобы человеческая природа, человеческий индивидуум могли максимально себя раскрыть. Помимо этого, необходимо осознать, что либерализм не массовое движение и если он хочет удерживать свои позиции, то, наверное, нужно озаботиться в первую очередь формированием адекватной, сильной, серьезной либеральной элиты. Для России это проблема номер один. Для Запада, видимо, тоже, потому что вопрос о ценностях касается всех.
Таким образом, два базовых направления, которые нужно прорабатывать сегодня либералам, — это обсуждение терминальных (высших) ценностей духовной природы человека наряду с потребительскими, инструментальными ценностями и поиск способов формирования грамотной, эффективной либеральной элиты.
В современном публичном дискурсе произошла редукция демократии до либерализма, либерализма до вопросов прав человека, прав человека до прав меньшинств. Таким образом, те, кто говорят о либерализме, по необходимости выглядят в массовом сознании прежде всего защитниками прав меньшинств. В результате те, кто выступают против сложившегося либерального консенсуса в политическом пространстве, парадоксальным образом выступают почти всегда с тезисами о свободе, об освобождении. Они говорят о том, что экономическая свобода в ЕС задавлена брюссельской бюрократией, что свобода простого американца задавлена бюрократией вашингтонской, что «либеральный террор» в публичном пространстве и либеральная политкорректность не дают никому открыть рта. То есть все они тоже по-своему выступают за свободу.
Многое из того, что говорит и делает президент Трамп, — это либертарианская программа.
Многое же из того, что делает Европейский союз, есть, по сути, плановая и социалистическая политика, в которой очень много диктата, если не государственного, то надгосударственных структур. Соответственно, если мы не разглядим основ позиции, на которой стоят противники публичного либерализма, сложившегося как нечто общеобязательное, мы не поймем их мотиваций. И будем говорить, как часто говорят, что это просто люди неграмотные, плохие-злые, расисты-сексисты, поэтому они так себя ведут, поэтому они так неправильно голосуют. Но нет. Они выступают от имени своей потребности, своей насущной нужды. Это либералам нужно понимать и учитывать в своей политике.
Народ, голосующий потому и голосует за упрощенцев-популистов, что не хочет заниматься всем этим, вникать в сложное устройство ЕС. У людей есть более важные дела: как жить, куда ехать, как устроить жизнь детей. Всем до лампочки, что такое Европейский союз, но при этом все охотно толкуют Европейский союз как диктат. Вот последний показательный пример. Многих возмущают европейские налоги (или, точнее, квазиналоги), которые собирает с членов ЕС «Брюссель» (институты ЕС) на общие задачи Союза. Это порядка 535 млрд евро в год со всех 28 стран ЕС, что, в сущности, очень мало. Весь этот европейский квазиналог и направления его трат утверждаются в конечном счете теми, кого мы избрали в Европейский совет (то есть нашими же национальными правительствами).
Но даже те, кто избран в Европейский совет и принимает там решения, предпочитают ругать Европейский союз, потому что таким нехитрым способом выглядят хорошо в глазах своих избирателей.
Защита униженных и оскорбленных скорее проблематика социализма. Во многом демагогическая, надо добавить. Никогда социалисты и коммунисты толком ни униженных, ни оскорбленных защитить не могли. Проблематика же либерализма — защита прав креативных, самодостаточных, ответственных и работающих, живущих по закону, то есть законопослушных, людей. Вот права каких людей нужно защищать. Либерализм должен четко заявить в этой части о своей позиции. Формулировка «мой дом — моя крепость» принадлежат Джону Локку, основоположнику либерализма. Либералы обязаны в первую очередь защищать интересы ответственного, законопослушного, платящего налоги хозяина, а потом уже подумать о несчастных, униженных и оскорбленных. Мы должны в первую очередь обратиться к тем, кто не только нас понимает, но и живет так, как мы хотим понимать. Вот в этой ситуации — такой инверсии — думаю, что у либералов появляются хорошие политические шансы.
Это консервативный курс на изоляцию, на усиление государственного вмешательства с целью стимулировать те отрасли промышленности, которые обеспечат британцам занятость. Иначе говоря, политика Мэй совершенно однозначно антирыночная, коллективистская, и либеральный журнал «Экономист» именно так определяет ее антилиберальную позицию.
Также есть принципиальное возражение относительно критики мигрантов в Европе. В статье журнала «Экономист» о современной Германии было убедительно показано, что количество налогов, выплачиваемых иммигрантами в Германии, на порядки превышает сумму получаемых ими государственных пособий. Это опровергает мнение о так называемом воинствующем паразитизме мигрантов. В той же статье говорится, что недавние мигранты, — а это в значительной степени образованные мужчины активных возрастов, — гораздо более предпринимательски настроены, чем средние немцы. По мнению «Экономиста», нельзя говорить о предприимчивости как исключительно о достоинстве немцев. Напротив, наряду со склонностью к риску она является преимуществом мигрантов.
Треть новых стартапов в Германии принадлежит иммигрантам. По всему Европейскому союзу подобные данные отсутствуют, но можно предположить, что, поскольку Германия принимает наибольшее количество беженцев по сравнению со всеми остальными странами ЕС, так же дело обстоит и в Союзе в целом. Иначе говоря, представления о воинствующем паразитизме мигрантов не более чем миф.
Все страны выбрали управление путем закона (верховенствоконституционного права). То, что Венгрия Виктора Орбана выглядит сейчас коррумпированным мафиозным государством, объясняется тем, что в Венгрии во времена «Круглого стола» (конец 1989 — 1990 год) политики решили не открывать свои личные досье в КГБ и его аналогах в странах ЦВЕ. Сейчас, когда все стали догадываться, о чем речь, начали думать и о том, кто такой Дюрчань и кто такой Орбан, почему Петера- кош Бот сделался министром финансов и проч. Но это внутренняя проблема Венгрии, а в 1989–1990 годы, повторим, было принято решение не трогать старых лидеров, не начинать реформы с ограничения прав и с насилия.
Либерализм — мощная сила, которая насытила своими идеями и консервативную и либеральную партии. Не нужно мерить, у кого из них больше либерализма. Но интерпретация в рамках противопоставления «правый либерализм против левого» вполне возможна. Хотя динамика в политических доктринах наблюдается все время. Например, левые либералы все больше превращаются в социалистов.
В качестве противовеса этому правые либералы начинают подавать консервативные знаки. Если мигранты в Европе создают стартапы и платят налоги — они естественные союзники либералов. В свое время, после революции 1917 года, русская эмиграция в Югославии создала огромное количество успешных стартапов, которые подняли страну на новый уровень. Это были лучшие врачи, лучшие инженеры, лучшие администраторы. За таких беженцев либералы должны стоять горой, как за людей креативных, самодостаточных и законопослушных. Может, поэтому немцы так спокойны сейчас, что умеют абсорбировать большие массы мигрантов в свое общество и двигаться вместе к общей пользе.
Что касается новых позитивных образов для современных либералов, то вспомним, например, гениальный роман Михаила Булгакова «Собачье сердце», в котором изображены либерал и охлократическая коалиция шариковых и швондеров, Либерал — профессор Преображенский, который голосовал бы либо за правых кадетов типа В. Маклакова, либо за левых октябристов типа А. Гучкова. Он находится в либеральном центре. Это наш человек. А шариковы и швондеры — не наши. Почему мы должны заботиться о Шарикове? Почему мы должны слушать швондеров, которые паразитируют на шариковых? У либералов и без того имеется прекрасная социальная база, с которой они и должны работать.
В современной России профессор Преображенский и такие, как он, не имеют своего политического представительства. И когда он говорит: «Не хочу я сдавать деньги на каких-то голодранцев» — правильно говорит.
Экономическая политика Тэтчер была последовательно либеральной. Она осуществлялась по лекалам Лондонской и Чикагской школ экономики. Приватизация, дерегулирование, поддержка свободного предпринимательства, сокращение государства. Экономическая политика Тэтчер в единой Европе также была либеральной. Именно Тэтчер была одним из главных лоббистов единого внутреннего рынка ЕЭС, снятия барьеров для торговли и инвестиций.
Фритрейдерство, открытые рынки, сокращение роли государства в экономике, сокращение налогов, оптимизация социальных программ— все это было либеральной программой тэтчеризма. То, что при всем этом в вопросах внешней политики: войны с Аргентиной, холодной войны и гонки вооружений, борьбы с СССР — она была консерватором и империалистом, тоже верно.
Что касается современного либерализма, то в основе его политической программы лежит дебюрократизация, дерегулирование, защита прав и свобод человека, прав собственности, поддержка европейской интеграции как проекта, снимающего барьеры между странами и формирующего европейское единство. То есть все то, что сейчас активно атакуется слева и справа.
Если говорить о Трампе, то и он либерал во многих отношениях, в частности в экономических своих начинаниях внутри США, но, когда он призывает к возведению барьеров для беженцев и мигрантов, он не либерал, потому что противостоит такой ценности, как свобода передвижения. И он не либерал, когда называет прессу врагом народа.
Протекционизм не либерализм, стена с Мексикой не либерализм, ограничения для мигрантов не либерализм, «пресса — враг народа» не либерализм. В чем-то Трамп либертарианец, но в целом не либерал.
Что касается мигрантов, то основная проблема заключается в том, что в их среде существует иная культура со своей системой ценностей, человеческих взаимоотношений. Если культура из XIX века или более древняя приходит в современную Европу, пусть и с успешными стартапами, и если она не «переваривается» европейской культурой, то и сама европейская культура тоже со временем меняется. Как будут действовать все эти успешные стартапы, когда, скажем абстрактно, в Европе победит мусульманство? Можно ли быть уверенным в том, что в Европе будет и впредь развиваться характерный для нее индивидуалистический капитализм? Поэтому, когда мы рассуждаем о сокращении численности коренного населения и замещении его инокультурными элементами, мы не должны говорить только об эффективности экономических стартапов и предпринимательской инициативы.
Следует говорить и о наборе ценностей, который в том числе включает ценность частного предпринимательства. Если инокультурные мигранты начинают говорить иным языком, иным образом общаться с людьми, иным образом представлять себе власть, взаимоотношения между мужчинами и женщинами, то может сформироваться совсем другое общество, не стимулирующее в конечном счете те же самые стартапы, не либеральное в своей основе.
Российское общество — это общество, изуродованное тоталитаризмом, общество, в котором на протяжении многих лет после краха СССР устойчиво держится высокий уровень авторитарности. Сохраняется авторитарный синдром. Какие-то либеральные компоненты усиливаются, какие-то ослабевают, но в общем, если социологически посчитать, мы увидим, что в обществе мало что меняется, причем даже при смене поколений.
Что можно сделать в этих неблагоприятных для либералов условиях? Может быть, нужно по-иному разговаривать и по-иному себя вести в избирательных кампаниях. Но что абсолютно необходимо стратегически — формировать современную либеральную элиту, которой в России на сегодняшний день нет. Но это долгая работа, работа на поколения. Когда социолог Валерия Касамара во время своих исследований берет интервью у московских бомжей и у депутатов Государственной Думы, выясняется, что тексты тех и других неразличимы, причем не только по идеям, но и по словарю. Разница между средним классом и рабочим классом, элитой и не элитой в России на порядок меньше, чем в любом другом европейском сообществе.
Поразительная авторитарная однородность общества говорит о том, что до политической победы либералов в России еще очень далеко. Нам надо готовить фундамент для этого, создавая элиту, пропитанную ценностями свободы. Сумеем ли мы выжить, не развалится ли общество, в котором на разрушение работают мощные негативные факторы, и внутренние, и внешние, — большой вопрос. Но действовать нам следует прежде всего в этом направлении.
Профессор НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский считает, что либерализм — явление историческое. Оно появляется на определенном этапе истории, когда на него формируется общественный запрос. Средневековой Европе либерализм был не нужен, как и крепостной России. Декабрист Пестель не мог быть либералом, даже если бы победил в декабре 1825 года.
Либерализм — это идеология, психология и мироощущение сложного общества, а непримитивного средневекового религиозного общества, в котором есть царь и сохраняется непререкаемый авторитет главы семьи. Есть даже соответствующая русская поговорка: «Большак в дому, что хан в Крыму». Это общество не признает никакого либерализма, никакого отступления от иерархии и власти авторитета.
Освальд Шпенглер писал, причем уже в ХХ веке, что либерализм — это система, с которой жить невозможно в принципе. Он полагал, что нужно говорить не об обществе, а о народе. Это важное философское различение — общество многослойно, состоит из разных интересов, их могут выражать разные люди, они могут иметь разные точки зрения, и именно здесь находится место либерализму. А народ, по всем представлениям о нем (можно в этом смысле перебрать множество схожих представлений и политических проектов ХХ века), — это что-то единое, органическое, неразделимое. Ключевые слова в таком понимании народа — единство, слитность.
Партия должна называться «Единая Россия», а не какая-то другая. А для либералов ценность как раз в том, чтобы Россия, как общество, была не единая, а сложная, в том, чтобы здесь сосуществовали разные позиции, чтобы люди могли их свободно выражать и находить баланс интересов. У Рабле на дверях утопического Телемского аббатства написано: «Делай, что хочешь». Потом объясняется, что в условиях такой полной свободы человек должен быть ответственным. Уже в те времена (XVI век) Рабле провозглашал идеи либерализма: свобода для кто угодно, в том числе и для цыган, и для женщины, которая не хочет рожать, и т.д.
Нечего учить людей, что им делать. Как потом с этим жить обществу? Невозможно согласиться со Шпенглером, что жить невозможно, но, несомненно, жить в свободном обществе много сложнее, чем в несвободном. Достоевский писал, что самое тяжелое для человека — бремя выбора, бремя ответственности. Когда нужно выбирать, тогда-то и становится страшно. Для Достоевского «Делай, что хочешь» звучит как вседозволенность. И в России это так до сих пор воспринимается. Если можно делать что-то, то обязательно нужны Дума и президент, чтобы всем предписать строгие правила и запреты.
Не факт, что можно явно противопоставлять либерализм демократии. Может быть, это и не одно и то же, но современное общество, именно современное (модерновое), настолько сложное — намного сложнее христианского общества, что оно объективно нуждается в либерализме.
Современное городское общество (промышленное, постиндустриальное и проч.) должно быть устроено так, что в нем, как в античном хоре, одни поют одно, другие поют другое, а человек выбирает между различными партиями. Нельзя сказать, что демократы лучше, чем республиканцы, или республиканцы лучше, чем демократы. Хорошо, что в современном сложном обществе есть и те и другие. И что они тянут в разные стороны. И что человек может свободно выбирать между ними. И тогда мы получаем итоги выборов: 52% против 48%. А когда у правящей партии 99%, становится очевидной принципиальная разница между либерализмом и антилиберализмом.
В течение длительного исторического времени разрабатываются и применяются две разные модели общественного развития. Первая — иерархическая. Иерархия, где сверху вниз господствует статус и подчинение, связана с определенными историческими формами, в которых есть царь, князья, аристократия и под ними люди, которые им подчиняются. Например, феодальное общество структурировано как иерархия. Другая общественная система — рынок. В этой системе встречаются два человека, у одного есть деньги, у другого — товары, которые нужны первому. Они свободно обмениваются, они абсолютно равны в этом обмене, и если вы берете массу такого рода обменов и такого рода равных участников, вы получаете рынок.
Если вспомнить, что человечество переживало за последние 300–500 лет, то это было столкновение вертикальной иерархической модели и рыночной горизонтальной модели. Существовал феодализм, потом вырос капитализм, позднее появился социализм вместе со всеми своими идеями. Исторически рождение либерализма было связано с появлением рыночной экономики и борьбой буржуазии за то, чтобы получить возможности для свободного развития. Буржуазия не особо заботилась о трудящихся массах — капиталист мог свободно купить рабочую силу на рынке труда, и больше его ничего не интересовало. Но он, конечно, был против старой иерархии, то есть против монархии и аристократии, потому что хотел, чтобы в его распоряжении была свободная сетевая система политики и экономики.
В результате внутри европейской культуры произошли острые столкновения с другими, архаическими культурами (так называемые буржуазные революции) и образовалось современное либеральное буржуазное общество. В Европе возобладала либеральная капиталистическая культура, она и является образцом. Везде, где есть живые люди, они обязательно создадут сами себе кучу проблем, но проблемы эти решаются легче в либеральных демократиях. В то же время свободное общество богаче, потому что в нем есть конкуренция экономическая и политическая, то есть демократия. Демократия — это жизнь с большей прибылью и бóльшим удовольствием. Потому либералы и верят в жизненность либерализма.
Но, предположим, кризис все же есть; по крайней мере, есть предпосылки и предощущение такого кризиса. Тогда вопрос — это кризис чего? Как представляется, в ходе дискуссии уже стало ясно, что кризис, возможно, испытывает либеральный мейнстрим, который сложился во второй половине ХХ века и сам по себе есть сложный компромисс между социальным либерализмом и экономическим либерализмом. У него есть еще два важнейших элемента: глобализация и толерантность. Эта достаточно неопределенная совокупность ценностей и формирует компромиссный либеральный мейнстрим, с которым сегодня возникла некоторая проблема.
Чтобы понять природу и условия возникновения этой проблемы, полезно взглянуть на нее в контексте больших политэкономических циклов. Весь современный либеральный мейнстрим сформировался в то время, когда западный капитализм противостоял угрозе со стороны коммунистического проекта, маневрировал и в силу этого сам был вынужден существенно видоизменяться. Затем мы имели примерно 25 лет посткоммунистической истории (после 1989 года). В этой посткоммунистической истории главным было даже не то, что исчез коммунизм, а то, что начался процесс глобализации, который по своей сути был процессом колоссального перетока капитала из Западной Европы и Америки на новые развивающиеся рынки. Он вызвал мощный экономический рост в развивающихся странах, как и их включение в общие рынки. Привел к формированию большого корпуса стран с нелиберальным капитализмом, который не прошел того пути, что прошел европейский капитализм в середине ХХ века. Этот нелиберальный капитализм сейчас является значимым мировым фактором (как в экономике, так и в политике).
У него другие (по сравнению с западными) институциональные представления, он доказал, в частности, что для быстрого и сильного экономического роста не нужны ни хорошая судебная система, ни даже совершенная защита прав собственности. Очень многое из того, что считалось обязательным условием экономического роста, ему оказалось не нужно — и без того обеспечивается бурный рост экономики и доходов. Рост нелиберального капитализма к тому же интегрировал элиты Запада, которые с ним охотно и с выгодой взаимодействуют, поскольку в развивающихся странах у них размещены немалые капиталы.
Еще один очень важный фактор изменений: в то время как от глобализации капитал на Западе сильно выигрывал, рынки труда, в основном западные, принимали на себя немалые издержки этого процесса. Ведь западный капитал мог идти на новые рынки и там зарабатывать, в то время как старые западные рынки труда, наоборот находились под давлением в результате притока дешевой рабочей силы и переноса производств на восток и юг, поэтому заработная плата в старых индустриальных странах переставала расти, даже менялась не в лучшую сторону структура экономики. Доля труда в экономике ряда развитых стран начала сокращаться. Заметно ее уменьшили, к примеру, Соединенные Штаты и Германия. Они, с одной стороны, сохраняли довольно высокие темпы роста, но с другой — перестали расти зарплаты, увеличивалась безработица. Это ложилось на плечи тех, кто находился на рынке труда и испытывал мощное давление извне дешевой рабочей силы и в виде мигрантов, и в виде переноса производств.
Такие глобальные процессы сформировали довольно жесткие политико-экономические вызовы и систему новых острых противоречий, которые в следующем длинном цикле придется как-то решать (сейчас мы как раз находимся в конце очередного большого цикла).
Сложно сказать, как будет выглядеть либерализм в дальнейшем, какова будет его позитивная повестка, но, возможно, сегодняшний кризис либерализма приведет к очищению последнего. Ведь в том, что, например, победил Трамп, тоже есть очищающее, правильное содержание, потому что его успех демонстрирует кризис сложившихся мейнстримных элит в американском обществе и вызов, который они получили от населения. Этот вызов для демократии, для развития свободы, для развития либерализма потенциально очень важный и продуктивный фактор.
Первое: отсутствие реальной демократической политической реформы, какая, скажем, была проведена в Польше или в Бразилии в их поставторитарном развитии, не позволило создать для тех, кто нес основные издержки экономического кризиса и экономической либерализации, то есть для основной массы граждан России, каналов социального и политического представительства. Демократические институты, и это правило не знает исключений, устойчивы только тогда, когда люди считают их эффективными каналами для отстаивания своих интересов. Посмотрите на Индию. Это страна, где, казалось бы, не должны функционировать никакие институты, страна с уникальным по сложности общественным космосом, страна, которая должна была бы развалиться... Но при этом в Индии каким-то чудодейственным способом работают каналы демократического представительства, и в результате она на протяжении уже многих десятилетий остается стабильной и прогрессирующей страной.
В России реальных политических реформ проведено не было, и именно поэтому демократия и либерализм для большинства народа стали ругательными словами или пустой абстракцией. Не потому, что в России отсталый народ, а потому, что к нему неподобающим образом отнеслись политики.
Другой момент, не менее важный с точки зрения либеральных перспектив. Следствием избранного Россией способа перехода к рынку стало отсутствие государства как системы публичных институтов, обеспечивающих гарантии частной собственности, сделок, и прежде всего отсутствие независимого суда. В итоге не получилось ни демократии, ни рынка. Можно утверждать, что за судьбу либерализма в России несут ответственность и те, кто вначале 1990-х называл себя либералами.
И в Европе, и в России проблема заключается в дискредитации слов. Либерализм сегодня немоден. Но при этом сохраняется, к счастью, понятие, которое остается более или менее популярным. Это понятие демократии. Большинство населения в России выступает за демократию (даже если не очень хорошо представляет, о чем именно идет речь). В Европе — тем более. Поэтому в новой программе для либералов речь должна идти прежде всего о демократии и акцент должен делаться не просто на права личности и роль индивидуума, а на отношения индивидуума и государства. Именно это принципиально важный вопрос для современного либерализма.
Все общества делятся на два типа. В феодальных, условно говоря, обществах личность закрепощена и является фактически собственностью правящей элиты (до сих пор это в России норма). В Европе, где господствует второй, свободный, тип общества, ситуация лучше; здесь развиваются гражданские общества, в которых сложились более сбалансированные взаимоотношения между человеком и государством. Идея абсолютного примата человека над государством является упрощением. Речь должна идти о договоре. Государство должно быть агентом, который реализует общественный и мой личный конкретный интерес. И для России, и для Европы актуально снижение роли государства. Возможно, начинать стоит с надгосударственных институтов, тех же брюссельских, которые воспринимаются сегодня людьми как супергосударство.
Понятно, что не предлагается перейти к анархизму и надо думать, как все лучше устроить на практике. Ясно одно — бóльшая часть населения в Европе и даже в России понимает, что государства стало слишком много. Чтобы государство превратилось в инструмент для реализации общественного интереса и интереса конкретного человека, его необходимо разумно ограничить.
Второе, с чем либералы могут впрыгнуть в актуальную демократическую повестку, — тема децентрализации власти. Если мы говорим о единой Европе, то речь не о том, чтобы распустить Евросоюз или чтобы в нем не было процессов интеграции. Но реальное повышение роли власти местного уровня наблюдается во многих странах Европы. Италия стала страной регионов. Польша до прихода нынешней власти уже провела реформу по децентрализации и стала страной воеводств, гмин и т.д. Германия — страна в достаточной степени децентрализованная.
Либералы должны стоять за самый низовой уровень власти — за местное самоуправление, за коммуны. Если я свободный человек, то имею право объединяться с такими же, как я, и решать вместе с ними местные проблемы. Государство не должно указывать, с кем мне объединяться, каким образом и для достижения каких целей. Для либералов принципиально важно, чтобы власть спустилась как можно ниже, с передачей вниз налогов, полномочий и проч.
А в экономическом смысле либерализм означает свободу малого бизнеса. Свободу мельчайшего предпринимательства. Причем это абсолютно не противоречит экономике XXI века. Это не примитивизация экономики, а, напротив, ее усложнение. Итак, оптимизация роли государства и децентрализация власти и экономики представляют собой два пункта либеральной повестки, интегрированной при этом в общедемократический процесс.
Что касается России, то в 1992 году был очень короткий, месяцев восемь, период, когда нашу экономическую политику с большой долей условности можно было назвать либеральной. Больше никогда и никакой либеральной экономической политики в чистом виде в России не было. То, что сейчас называют либеральной политикой и что в основном и ставится либералам в упрек, сводится к тому, что Центральный банк под руководством Э. Набиуллиной печатает деньги недостаточно активно. Никаких других примеров того, что у нас проводится либеральная экономическая политика, привести невозможно. Все в действительности происходит ровно наоборот. Государства все больше, налоги растут, регулирование усложняется и проч. и проч.
В российской внутренней политике никакого либерализма нет и в помине, здесь и доказывать ничего не надо. Поэтому у российских либералов задачи совершенно
другие, не европейские. Нам необходимо хоть чуть-чуть, хоть какие-то крохи либерализма вернуть в жизнь и защитить само понятие либерализма, которое благодаря усилиям официальной пропаганды стало пугалом для детей и взрослых.
В истории фритрейдерства были периоды, когда оно доминировало, и периоды, когда государства проводили активную протекционистскую политику. В эпоху меркантилизма, в XVIII веке, доминировал протекционизм, потом он постепенно ослаб, и с сороковых годов XIX века, с момента, когда в Англии были отменены так называемые хлебные законы (чисто протекционистские), в Европе стало доминировать фритрейдерство. На протяжении жизни одного-двух поколений идеи фритрейдерства были чрезвычайно распространены, и какое-то время казалось, что они победили навсегда. Но после экономического кризиса 1873 года сначала в Германии, а после в Австро-Венгрии протекционизм вновь начал набирать силу, и фактически все страны Европы к концу XIX века стали протекционистскими — в большей или меньшей степени. Дольше всех на позициях защиты свободы торговли держались Англия и Бельгия, но в конце концов в том или ином виде протекционистское начало захватило и их.
Протекционистский период длился до самого конца Второй мировой войны. Иногда экономисты укорачивают его, говорят, что протекционизм доминировал только между Первой и Второй мировыми войнами, но все же, если быть точным, началась эпоха протекционизма с экономического кризиса 1873 года и продолжалась до 1940-х годов. Это был очень долгий период. После Второй мировой войны стали вновь усиливаться фритрейдерские тенденции. В 1957 году появилось Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), ГАТТ1 постепенно трансформировалось в ВТО.
Последние лет тридцать фритрейдерские принципы доминировали во всем мире, причем сейчас надо говорить не только о свободной торговле товарами, но и о свободном движении капиталов. Валютные ограничения ослабли, миграция рабочей силы, напротив, увеличилась. Все эти факторы были либеральными по своей природе.
Сейчас, по-видимому, мы находимся на очередном нелиберальном переломе. Начался новый цикл ослабления фритрейдерства. Это уже проявляется в деятельности Трампа в США, в Брекзите.
С чем связаны столь крутые повороты политики на протяжении длительного исторического развития Европы? Они далеко не случайны. Дело не в том, что к власти приходят люди с новыми мозгами, с новым сознанием, — изменения политики практически всегда являются откликом на меняющиеся условия жизни. Меркантилизм стал погибать, потому что свободная торговля, свободная экономика, в основном на английском примере, показали, что так развиваться лучше, быстрее. Однако либералы не смогли своей фритрейдерской политикой удержать Европу от крупного экономического кризиса, это вызвало сильное недовольство масс, что вкупе с определенными политическими манипуляциями и привело к протекционистскому повороту 1873 года.
И впоследствии фритрейдерство то усиливалось, то ослабевало по вполне объективным причинам. В наши дни основная причина антилиберального поворота состоит в том, что глобализация, активно идущая в последние десятилетия, сформировала очень серьезные новые группы интересов в развитых странах мира, включая группы интересов, проигрывающие от глобализации. И они начали высказываться, активно искать и поддерживать политиков, которые, как им представляется, выражают их интересы. Действительно ли эти политики выражают интересы проигравших от глобализации — отдельный большой вопрос. Речь идет даже не об экономике, а скорее о политике, когда людям искренне кажется, что Дональд Трамп с его предвыборной риторикой на их стороне.
В ближайшей перспективе эти новые большие группы интересов проигрывающих от глобализации людей будут порождать своеобразные антилиберальные коалиции в экономике и политике и выдвигать вперед тех, кто на этом будет играть. Что либералам следует делать в такой ситуации? Конечно, полезно создавать картину мира, привлекательную для общества, обновлять риторику, но электорат можно собрать лишь до определенной границы. Поэтому надо искать союзников. Либералы должны понять, с какими политическими силами они могут заключить союз в борьбе с протекционизмом. Может, это те политические силы, которых они еще вчера считали своими противниками? Возможно, настало время искать компромиссы с социал-демократией, потому что и для нее протекционизм является врагом.
То, что действительно изменилось, — источники европейских квазиналогов. Десять лет назад 80% законов инициировались и принимались с подачи Европейской комиссии Советом ЕС в Брюсселе. Сейчас соотношение 50:50, то есть половина европейского законодательства принимается на национальном уровне. Решают сами страны, а не брюссельская бюрократия. При этом на европейском уровне защищается свобода торговли, а на национальном уровне видно противоположное движение к протекционизму. Однако протекционизм не победит. Все усилия политиков по защите национальных рынков будут сведены на нет такими новыми технологическими структурами, как китайская «Али-баба» и подобные ей. И очень быстро.
По поводу Китая, который очень хорошо объяснять с точки зрения теории общественного выбора. В Китае бандитов очень мало и правит компартия — сто тысяч тех, кто решает, кто есть власть и друзья этой власти. Остальным обеспечивается полная свобода. В том числе в Китае почти нет социального государства, народ занят тем, что зарабатывает себе на жизнь и на старость. Поэтому у них стабильный режим и быстрый экономический рост.
Их можно игнорировать и говорить только с креативными, самостоятельными и самодостаточными. Но хотелось бы обратить внимание на альтернативное обоснование либерализма, которое встречается только у одного автора — Людвига фон Мизеса, который в 1927 году написал классическую книгу «Либерализм». В основе его интерпретации либерализма лежит не ценностный, а рациональный подход. Мизес говорит, что в конечном счете либерализм не подразумевает ничего, кроме повышения материального благополучия людей. Это политическая доктрина, применяющая выводы социальных наук к тому, чтобы приспособить общество для достижения названной цели. Для Мизеса либеральная доктрина представляет собой обоснование общественных институтов, требующихся для повышения материального благополучия граждан каждого данного общества. Только в этом контексте у него в анализе либерализма появляются основные права, частная собственность, государство, демократия — не как ценности, а как средство (инструмент) достижения главной цели — материального благосостояния каждого человека.
Почему в качестве главной выбрана именно эта цель?
Потому что, по мнению Мизеса, подавляющее большинство людей в первую очередь желает улучшить свое материальное благополучие. Кроме того, материальное благополучие создает основу для достижения всех так называемых высших (или терминальных) ценностей. В своем учении о либерализме Мизес, впервые в истории человеческой мысли, объединил все социальные науки в единую систему обществоведения, единственную существующую сегодня. Либерализм у него вернулся к статусу рациональной социальной философии, а не ценностной политической.
Кроме того, дискуссия показала, что многие понятия и представления, которыми оперируют либералы, в значительной мере принадлежат к области мифологии и информационных войн. Например, то, что мигранты якобы отобрали у всех рабочие места, а сами не работают, живут на пособия, не подтверждается фактами. Как и то, что исламское население якобы вытесняет христиан в Европе и России. То, что Китай во всем обогнал Европу, а европейский мир находится в кризисе и лишается своего места мирового лидера, тоже неправда. Очень многое из того, о чем говорится как о само собой разумеющемся, в том числе и кризис либеральной демократии, — возможно, лишь популярные, но недостоверные информационные мемы. Из этого, конечно, не следует, что у либералов в Европе и России все отлично, но нельзя не учитывать того, что в новом информационном обществе реальность все больше формируется информационным пространством.
Либеральный консенсус, или, говоря языком противников либерализма, так называемый либеральный террор, который якобы не дает возможности высказать никакое альтернативное мнение, это скорее не либеральный консенсус, а социалистический. Многие «общеобязательные» сегодня представления, против которых не принято возражать, в том числе весь дискурс, связанный с меньшинствами или с тем, что называется государством всеобщего благополучия, даже с правами человека, — это все по сути своей политическая левизна, которая стала в наши дни мейнстримом, причем в дозах гораздо бóльших, чем люди готовы проглотить.
Значительная часть общественных реакций, которые воспринимаются как антилиберальные, на самом деле являются антисоциалистическими, антилевыми. Следует ли из этого, что, желая вернуть политическому либерализму его место в электоральной системе, мы должны отбросить левый дискурс, и сделаться, так сказать, завзятыми тэтчеристами, то есть пойти путем Трампа? В этом есть свой соблазн. Соблазн резкой политической позиции: «Долой паразитов! — давайте будем защищать права лишь самозанятых, креативных и законопослушных». Но в этом есть и немалые риски, потому что социалистическое, левое предложение возникло не на пустом месте, а в ответ на запрос народов на «государство всеобщего благополучия». И в ответ на действительное повышение уровня благосостояния, которое принесли послевоенные годы. Это для либералов довольно рискованная развилка. Как и другая: наоборот, принять в либеральное движение все эти социалистические понятия и социалистические ценности и говорить о том, что либералы защищают меньшинства от большинства, слабого человека от сильного государства, свободу от диктата. Исход этих дискуссий и этого принципиального выбора для либералов далеко не ясен.
Московское правительство приняло решение о массовом сносе старых, так называемых хрущевских, пятиэтажек. Речь идет о судьбе частной собственности полутора миллионов людей. Это центральный либеральный вопрос — о защите права частной собственности. Московское правительство объявило, что Конституцию, в которой определено, что никто не может быть лишен своей собственности, оно в ходе программы реновации фактически соблюдать не будет. Оно не может и не собирается компенсировать людям все их потери, поэтому просто заставит их переехать туда, куда государство посчитает нужным. Если российские либералы стремятся получить массовую базу поддержки, им следует встать на защиту прав частной собственности москвичей.
и следите за обновлениями!
Доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ, научный руководитель Экспертной группы «Европейский диалог.
В основе первого ― принцип обеспечения каждому члену общества минимально гарантированного уровня потребления материальных благ и услуг. В начале 2000-х годов в России, опираясь на ст. 7 Конституции 1, законодатели пытались принять закон «О минимальных государственных социальных стандартах», которым должны устанавливаться конкретные числовые параметры бесплатного (то есть перераспределяемого государством от одних налогоплательщиков к другим) предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, а также юридической помощи 2. Но дальше первого чтения этот закон не прошел. И не потому, что у государства на тот момент не было денег на реальное финансовое обеспечение этих, пусть даже очень скромных, стандартов.
Проблема в том, как именно интерпретировать эту статью российской Конституции.
Второй подход заключается в том, что эффективно функционирующее социальное государство в первую очередь создает условия для роста уровня материальной обеспеченности всех основных общественных групп и стимулирует движение социальных лифтов по вертикали. Англоязычная версия welfare state немного сбивает с толку из-за слова welfare: в России оно чаще всего ассоциируется с американским пособием по бедности. Прямая раздача денег или предоставление льгот и услуг по универсалистскому принципу (всем, независимо от положения каждого конкретного домохозяйства) при таком подходе либо совсем исключается, либо распространяется на очень небольшие группы населения (например, ветераны войн). Это относится прежде всего к социальной защите.
Что же касается образования и здравоохранения, то здесь практически во всех обществах достигнут консенсус: школьное обучение и частично профессиональное образование должны обеспечиваться за счет бюджетной системы, равно как и первичная медицинская помощь (в этом случае, кроме бюджета, большую роль в ряде стран играют страховые механизмы). Тем самым в данных двух сферах первый и второй подход к трактовке «социального государства» оказываются довольно близки.
Таким образом, когда идет речь о социальном государстве, чаще всего имеется в виду достаточно сложная и динамичная система, которая в каждый конкретный момент, в каждой конкретной стране ищет баланс между всеми социальными акторами в пользу признаваемой самим обществом справедливости. Далее остановимся на отношении либералов к социальному государству в таком его понимании.
Прежде всего, следует сослаться на Оксфордский манифест, который был одобрен 48-м конгрессом Либерального интернационала в 1997 году и является официальной программой для либералов всего мира 1. В самом его начале отмечается: «Свобода, ответственность, терпимость, социальная справедливость и равенство возможностей — вот главные ценности либерализма, и именно на их основе должно строиться открытое общество». Исходя из этого, на перспективу либералы намечают для себя решение нескольких задач, одна из которых ― решение «проблемы бедности и социальной изоляции». Вот какое обоснование приводится в этой части: «Бедность, безработица и социальная изоляция разрушают жизнь людей, особенно женщин, детей и престарелых, и представляют собой главные угрозы для общества граждан. Бедность порождает отчаяние, а отчаяние влечет за собой экстремизм, нетерпимость и агрессию. Главным способом смягчения бедности является предоставление людям средств для самостоятельной борьбы с нею и победы над ней.
Мы призываем к активной политике, создающей возможности для образования и трудоустройства, поддержке, основанной на привлечении общественных и частных резервов, тех, кто не может помочь себе самостоятельно. Общественные учреждения и системы социального обеспечения должны быть как можно более гибкими и децентрализованными, иметь целью поощрение индивидуальной ответственности и учитывать личные обстоятельства человека».
При этом социальное государство не означает массового патернализма. Оно является продуктом баланса ответственности всех акторов, включая и индивидуума. Сейчас много говорят о ценностях развития и ценностях выживания. Россия ― страна, где господствуют ценности выживания. А либерализм все-таки настраивает любое общество на развитие ― интеллектуальное, физическое, духовное.
Дискуссия о совместимости либеральной идеи и социального государства затрагивает самые основы демократического общественного устройства. Это касается и местного самоуправления (локальных сообществ), и НКО, и бизнеса. Без свободного функционирования этих и других институтов ни о каком социальном государстве либо, если угодно, ни о какой эффективной социальной политике речи быть не может. Все заменяется имитациями и манипулированием общественным мнением (государственной пропагандой), что мы видим на примере современной России.
Поэтому последовательность действий по формированию политики, в центре которой поставлен человек и качество его жизни, в нашей стране могла бы быть следующей:
1) реформа публичной политики (возвращение разнообразия ведущих СМИ, конкурентные и честные выборы на всех уровнях, децентрализация власти);
2) развитие местного самоуправления, в том числе наделенного широкими компетенциями в области социальной политики (в России имелся положительный опыт земств, много делавших в этой области);
3) обретение судебной системой независимости, возвращение исполнительной ветви власти ее подчиненного положения по отношению к власти законодательной;
4) обеспечение свободы малому и среднему бизнесу, ликвидация госкорпораций в ведущих отраслях российской экономики;
5) формирование на основе общественного договора и широкой общественной дискуссии справедливой социальной политики с использованием опыта наиболее успешных стран общеевропейского цивилизационного пространства.
Опубликовал ряд работ по философии классического либерализма, был переводчиком и научным редактором переводов на русский язык работ Фридриха Хайека, Рональда Коуза, Гэри Беккера.
На практике это конгломерат, состоящий из множества противоречащих друг другу частей, имеющий свою собственную иррациональную динамику, когда непонятно даже, кто выигрывает от его разрастания, а кто нет, когда эффекты одних программ погашаются эффектами других программ и деньги в огромном числе случаев получают совсем не те, кому они, казалось бы, были предназначены. Можно придумывать, конечно, различные рациональные аргументы в пользу того, чтобы такое государство существовало, чтобы оно расширялось, чтобы расходы на него росли, но эти аргументы, как правило, имеют очень слабое отношение к реальной жизни.
Такое мнение можно считать отрицанием самой возможности употребления термина «социальное государство», как устаревшего, не соответствующего тенденциям XXI века.
Сама идея социального государства была изначально выдвинута в качестве альтернативы идеалам классического либерализма и с момента ее рождения носила откровенно нелиберальный характер. Дизраэли, который не был либералом, высказывал такие мысли. Бисмарк не был либералом, и Муссолини, который построил разветвленное welfare state, либералом не был. И вообще, люди левых взглядов к этой идее относились очень плохо до поры до времени, поскольку надеялись на революцию по-марксистски и отчетливо осознавали ее консервативные истоки, и только после Второй мировой войны они восприняли тему социального государства, введя ее в свой собственный канон.
Сегодня популярна идея базового дохода на стимулы к труду. От введения базового безусловного дохода ожидается положительное влияние на тех, кто не работает. Но нужно также учитывать, какое это влияние окажет на тех, кто работает. Вообще, из теории мы знаем: достаточно дать любой трансферт, чтобы сократить стимулы к труду, к участию в рынке рабочей силы, к продолжительности рабочего времени и т.д. Какой из всех этих эффектов сильнее? Представляется, что эффект, который подрывает стимулы к труду.
Политолог, исследователь Либерального института Фонда Фридриха Науманна
А это неизбежно и всякий раз рождает несправедливость в перераспределении этих ресурсов. Поэтому либералы должны требовать такого порядка, при котором общественная помощь достается только тем, кто в ней действительно нуждается. Сейчас же из-за политического давления снизу государства вынуждены тратить деньги на поддержку и тех, кто и сам мог бы обеспечить свое благосостояние.
Более того, при такой монополии на социальную поддержку со стороны государства, человек не может убежать от нее, у него нет альтернативы. Поэтому важно создать систему, в которой при реализации социальных программ государство конкурирует с негосударством, государство — с неправительственными ассоциациями.
Basic income мог бы быть хорошей идеей с нормативной точки зрения, но он не должен быть безусловным, потому что кто-то должен давать на это деньги.
Это иллюзия и идеология, когда говорят, что этот безусловный доход является бесплатным. В мозгах людей, придумавших это и защищающих эту идею в Германии, живет картина, в которой существует безусловный доход для людей, которые получают деньги и ничего не должны при этом делать. Здесь видна уловка. Либералы никогда не должны говорить «безусловно», когда есть вполне определенные условия, а именно налогоплательщики должны дать деньги на это. Скажем, установили этот доход на уровне 1000 евро в месяц, через два года под давлением митингов и демонстраций подняли до 1500 евро. Это создаст серьезные проблемы стимулов для людей. Если это будут определять политики, то вскоре мы получим все те же проблемы, которые есть сейчас: рост долгов и т.д.
Если попытаться сформулировать общие либеральные принципы, важные с позиций справедливости и морали и относящиеся к социальной политике, то они будут такими. Первый: от каждого человека требуется личная ответственность. Каждый человек до очень высокого уровня несет личную ответственность за свою жизнь. Это значит, что если он получает деньги от других людей, которые зарабатывают их своим трудом, то должны быть очень сильные аргументы в пользу перераспределения этих денег. Поэтому контроль за реальной нуждаемостью нужен. Это не только технический, но еще и моральный вопрос, вопрос справедливости.
Несправедливо, если я без серьезных на то оснований говорю гражданину А: дай мне тысячу евро, я передам ее гражданину Б. Этого делать нельзя. Правда, это также вопрос бюрократии и контроля над администрацией. Это сложно отрегулировать хорошим образом. И конечно, все предложения относительно того, как организовать это более эффективно, очень нужны. И конечно, либералы не хотят государства, которое контролирует все. Без контроля нуждаемости это делать нельзя.
Второй принцип также относится к справедливости — нам нужен свободный вход в рынок труда. Очень свободный. В данный момент это все до крайности зарегулировано. В России, в Евросоюзе, во многих странах очень серьезные проблемы на рынке труда. Во Франции, например, молодежная безработица высока именно по этой причине. Не из-за образования и других подобных вещей, а из-за невозможности войти на зарегулированный рынок труда.
Подавляющее большинство людей может работать, и им не нужны деньги базового дохода. Поэтому государственное перераспределение мы должны очень серьезно лимитировать, тогда и в административном смысле справиться с социальными задачами будет намного легче.
Наконец, нам нужна конкуренция в социальной сфере. У людей должна быть возможность выйти из монопольных социальных систем, из государственного здравоохранения и из пенсионной системы. Хватит плодить монополии, в том числе и социальные. Сама возможность такого выхода ― очень эффективный инструмент в экономике. Если кто-то понимает, что его клиенты недовольны, что они уходят, он будет менять что-то. В социальной сфере также необходим выбор, конкуренция. Государство создало социальные институты, в которых нет динамики, стимулов к инновациям и эффективности, именно поэтому система должна быть изменена на более открытую и конкурентную.
Российский журналист, политолог, философ
Но фактически нынешний кризис в Европе, да и голосование в США (речь о сенсационной победе Трампа в 2016 году), свидетельствует о том, что требуется новая картина стратификации общества. Возможно, европейская мысль стоит перед новой задачей. Идут поиски того, как именно назвать американский «ржавый пояс» или те 25% среднего класса, которые голосуют за Трампа и Ле Пен. А что это за средний класс? Почему такая мотивация в нем возникает? Точно так же заново придется переосмысливать социальную стратификацию в крупных городах.
Культурный контекст, история формирования политических систем и акторов этих систем, также влияют на облик социальных государств, на саму концепцию благоденствия и концепцию роста.
В последние 10‒15 лет в мире стала популярной концепция welfare state, в которой существенной является связка «потребитель ― услуга». Есть социальная услуга ― у нее есть потребитель, при этом потребитель должен не просто ее потреблять. С точки зрения социального нормативного государства, потребитель таким образом включается в некоторый рынок, в котором он должен действовать; попадает в социальную систему, вступает в рыночные отношения внутри агентских организаций, которые оказывают социальную услугу, и сам начинает трансформироваться. Предполагается, что тем самым у этого человека повысится степень интегрированности в современное общество, и он сможет стоять за себя дальше сам, решая вопросы со своими социальными нуждами.
Для либерализма это создает проблему инструментализации самого выбора, инструментализации очень многих прошлых практик, которые были связаны с искренним стремлением человека к свободе.
Кроме того, либеральных ответов требуют взаимоотношения внутри семьи. Должны ли родители оплачивать обучение своих взрослых детей и содержать их в период безработицы? И наоборот: должны ли взрослые дети содержать своих престарелых родителей?
На эти вопросы все еще нет четких либеральных ответов.
Заместитель главного редактора журнала «Экономическая политика»
Отсюда постоянное нарастание государственного долга развитых стран. По его оценкам, к 2040 году он прогнозируется, в частности, в Германии в размере от 300 до 600% ВВП. Но при этом разговор о реформах в краткосрочном плане бессмыслен, а в долгосрочном плане можно ставить вопрос так: когда это произойдет, когда материальные ограничения начнут ощущаться уже в рамках практической политики, а надо сказать, что политические и интеллектуальные элиты это все прекрасно понимают, ― что тогда придется предпринимать? Бен Бернанке, председатель Федеральной резервной системы США, про этот кризис социального государства говорил еще несколько лет назад.
Рано или поздно пузырь госдолга лопнет, и тогда наступит открытый кризис социального государства. Чтобы успешно выйти из этого катастрофического положения, Кузнецов рекомендует опираться на систему общественных взаимоотношений вне государства ― семью, ассоциации, местное самоуправление. По сути, это всевозможная деятельность по растаскиванию, демонтажу того огромного аппарата социального государства, который сложился.
Что касается базового дохода, то что же это такое и почему за эту идею схватились? В действительности речь идет о замене многих существующих условных пособий единой выплатой, которая, естественно, может заменять все, а может не все пособия ― это уже развилка для политического решения. Зачем это делается вообще? Зачем финское правительство решило начать с этим экспериментировать? Собственно, основных мотиваций две. Первая ― избавиться от проверяющего и распределяющего аппарата, потому что, когда много условных пособий, требуется большой аппарат по их администрированию и проверкам. Вторая мотивация ― попытаться таким способом либерализовать и дерегулировать по возможности рынок труда.
В чем проблема с существующими условными пособиями? В том, что, когда человек переходит из категории бедных, незанятых в категорию занятых, у него пособия отрезаются, и поэтому, чтобы не потерять благосостояние, он должен начать работать сразу с доходом выше, чем был у него по пособию плюс побочные заработки. И часто при получении работы и потере пособия происходит провал в доходах. Поэтому очень многие люди просто даже не пытаются найти работу. Если же условное пособие заменяется безусловным, то человек получает гарантированную выплату от государства и плюс все то, что он заработал дополнительно. Это способ, говоря цинично, вытолкнуть достойных бедных на рынок труда, на работу. Вот и всё.
Дальше важный момент, который не понимает вообще никто, кроме кучки экономистов: базовый доход для подавляющего большинства жителей страны не является доходом, а является налоговым вычетом. По большому счету это всего лишь метод изменения администрирования подоходного налога и социальных пособий.
Нужно развеять мифологию, которая уже начала складываться вокруг этой идеи. Во-первых, неправильно называть этот доход основным. Basic ― это базовый, а не основной. Никто не предполагает, что эти средства для кого-то вообще будут основным доходом. Русское слово «основной» имеет разные значения. Во-вторых, следует убрать в отдельную категорию вопрос о замене пенсий пособием по нетрудоспособности.
Более вероятным представляется бесконечное загнивание. Провидеть будущее невозможно, но при этом анализ реформ в разных странах показывает, что, как правило, реформы начинаются лишь тогда, когда государства дошли до кризиса, потому что, пока не дошли, всегда есть различные группы интересов, которые блокируют реформы. А когда произошел кризис, причем кризисы могут быть разные: военное поражение, дефолт, революция, тогда действительно ломаются прежние группы интересов, часто они просто исчезают, изменяется баланс общественных и политических сил, иногда появлялись в прошлом харизматические автократы, которые брали на себя ответственность за решительные перемены (Наполеон и т.д.).
Вот такая печальная перспектива в обозримом будущем ждет социальное государство. Скажем, Греция долго жила не по средствам, и однажды это надоело остальной Европе, она навалилась на греков и заставила их реформироваться. Но когда-то это будет общая проблема развитых стран, потому что огромный долг накопился у Соединенных Штатах, огромный долг у Японии и так далее, и можно ожидать общего долгового кризиса, который это все сможет очистить, но в очень тяжелой форме. Кризис социального государства будет нелегким для допустивших его обществ.
Таким образом, если суммировать приведенные аргументы, обнаруживается большой разрыв между нормативным состоянием социального государства и действительностью. Причем острота этого несоответствия уже сегодня настолько велика, что может перейти в открытую кризисную форму. Дезинтеграция государства как института или по меньшей мере демонтаж его чрезмерных распределительных масштабов, рассматриваемые как рецепт выхода из кризиса социального государства, требует дальнейшего обсуждения в рамках дискуссии о децентрализации власти и движения к маленькому государству.
Возможности либералов на что-то влиять в сфере социального государства крайне малы, но, может быть, в будущем, в условиях грядущего кризиса, они сумеют мягко демонтировать чрезмерное государство. Идея о переносе социального государства на локальный уровень ― либеральная и правильная идея. В идеале хорошо было бы это сделать. Но и на локальном уровне будут возникать различные групповые интересы, сталкивающиеся друг с другом.
Председатель Общероссийского общественного движения «Выбор России», политик, член Координационного совета Экспертной группы «Европейский диалог»
Практически на каждое домохозяйство района, а их несколько тысяч, заведена отдельная бумажная папка. Основная часть чиновников районной администрации занята контролем социальных выплат и контролем сбора информации о домохозяйствах, которым оказывает помощь государство в силу их крайне низких доходов. Может быть, социальное государство, по крайней мере в России, уже состоялось?
Среди либералов существует достаточно широкий консенсус по поводу проблематики welfare state. При всех нюансах позиций все согласны с тем, что это реально существующая проблема, что груз социального государства большой и он растет. Были разные попытки решить эту проблему. Каха Бендукидзе в Грузии даже провел закон о предельном уровне государственных расходов. Он попытался специальным нормативным актом поставить предел социальному государству, то есть установить лимит доли госрасходов в ВВП, который дальше распределяется между различными государственными и общественными приоритетами: на оборону, пенсии, медицину и т.д. Фридрих Хайек предлагал в своей книге «Конституция свободы» сделать нечто подобное, высказывал идею конституционного ограничения размера государства (масштабов изъятий и перераспределений), внутри которого необходимы public debates о направлении государственных расходов. Возможно, к такому подходу стоит вернуться в наши дни?
Идея социального государства не может себя изжить, потому что она является движущим фактором сознания сотен миллионов людей. И это такой силы фактор, что, по всей видимости, даже авторитарные лидеры ничего не могут с этим сделать, тем более «слабые» либералы. Во-вторых, эта идея, конечно, требует переосмысления, переналадки, серьезных реформ. И в этом направлении следует продолжать интеллектуальную работу.
Что касается понятия «социальная справедливость», то поддержу Сашу Тамма, который говорил о том, что монополия государства так же плоха, как и монополия “Газпрома”, что у человека должно быть право выхода из государственной системы, что должна быть конкуренция услуг или конкуренция социальных благ, которой у нас сегодня практически нет. Есть частное здравоохранение, есть немножко частных школ, но это очень небольшой задел. Необходимо широко поощрять создание негосударственных ассоциаций в сфере социальной политики, каких, кстати, было множество в императорской России. В человеческий капитал надо инвестировать как можно больше, особенно в образование.
Похожие социальные эксперименты провели в 1980-е годы австрийцы когда обеспечили пособие по безработице на полтора или два года размером в 90% от заработной платы. В результате в последние два года перед пенсией не работал никто, все массово переходили в категорию безработных и получали высокое пособие. Никакой мотивации продолжать работу не было. На те же грабли наступило правительство раннего Ф. Миттерана. Оно резко повысило пособия по безработице, после чего «удивительным образом» во Франции резко выросло число безработных. Скачкообразно выросло.
Был и еще целый ряд примеров такого рода. Как только вы начинаете платить достаточно крупную сумму практически всем, кто хочет ее получить, общий дестимулирующий эффект оказывается гораздо больше стимулирующего.
Идея предоставления базового дохода всем гражданам страны, как мы видим, имеет много неисследованных последствий при ее реализации. Но отбросить ее с либеральной точки зрения точно нельзя. Либералы могут и должны сказать свое слово в дальнейшей дискуссии, добиваясь воплощения того, что они подразумевают под «социальной справедливостью» (см. Оксфордский манифест, о котором упоминалось выше).
Также важно понимать, что тезис о том, что либерализм и демократия противоречат друг другу или вообще несовместимы, сильное преувеличение. Он в скрытом виде базируется на довольно обидной предпосылке, что народ в общем глуп и склонен к паразитизму. Но это не так. Как показывает политическая история, средний избиратель в принципе разумен, и даже в погоне за социальным паразитизмом он все равно рано или поздно возвращается к вполне разумным электоральным предпочтениям.
По поводу того, какие это должны быть права (применительно к государству вообще, просто к государству, речь не о социальном государстве), есть цитата: «В числе необходимых условий подлинной свободы помимо пресловутой экономической свободы часто и с большим основанием называют также и экономическую защищенность. В определенном смысле это верно. Независимый ум или сильный характер редко встречаются у людей, не уверенных, что они смогут себя прокормить.
Ограниченная защищенность достижима для всех и потому является не привилегией, а законным требованием каждого члена общества». И еще: «Нет никакого сомнения, что определенный минимум в еде, жилье и одежде, достаточный для сохранения здоровья и работоспособности, может быть обеспечен каждому». Это «Дорога к рабству» Фридриха фон Хайека, известного либерала, либертарианца, то есть это либеральная классика. Следует подчеркнуть, что обеспечение всем определенного минимума прав для либерала обязательно.
Третье соображение ― по поводу российского социального государства. Если проехать по волжским деревням, можно увидеть, что во многих закрылись школы. Детей возят за десятки километров на автобусах, причем в какие-то деревни этот автобус заезжает, а в какие-то нет, и дети должны идти до школы три, четыре, пять километров пешком. То, что говорил Владимир Рыжков по поводу 60% населения с социальными выплатами, означает, что люди, во-первых, не обеспечены работой и, во-вторых, за свою работу они получают сущие гроши. В провинции зарплаты в четыре-пять тысяч рублей ― это норма, а двенадцать ― это здорово. Потому это не социальное государство. Это государство-монстр, которое работает само на себя.
и следите за обновлениями!
Российский политолог и этнограф, Генеральный директор Центра этнополитических исследований, доктор политических наук, руководитель центра по изучению ксенофобии и предотвращения экстремизма Института социологии Российской академии наук, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.
Чем объяснить рост национал-популистской ксенофобной риторики на Западе и некоторый спад или трансформацию привычной ксенофобии в России в последние два-три года? Какие факторы лежат в основе этих явлений?
Совместимы ли вообще либерализм, демократия и национализм? Могут ли либералы, отстаивая универсальные ценности свободы, достоинства и равноправия индивидов, опираться на национальные чувства и особенности?
В чем состоит (или может состоять) либеральный ответ на подъем радикального, ксенофобного национализма и изоляционизма в Европе и России? Что российские либералы могут противопоставить этническому национализму, с одной стороны, и государственной «официальной народности» ― с другой?
В чем заключается либеральный подход (подходы) к политике по отношению к культурному многообразию? На какие принципы должны опираться либералы, определяя свое отношение к федерализму, культурным меньшинствам, мигрантам?
Условием либеральной демократии является гражданская нация. Таков подход Эмиля Паина, одного из авторов настоящей статьи, подробно обоснованный ниже.
В чем состоит социально-политическая сущность гражданской нации? Каково должно быть отношение либералов к этому явлению? Не закончилась ли эпоха национальных государств и не наступило ли время постнационального мира? Эти вопросы не новы, еще полтора века назад (1882) их затрагивал Эрнест Ренан в своей знаменитой лекции «Что такое нация?». Однако вопрос о нации древнее, поскольку термин «нация» известен с античных времен ― в Древнем Риме он означал племя. В Средние века появилось этническое значение этого термина, отразившееся, например, в названии Священной Римской империи германской нации. Потом появилось этатистское понимание нации ― как жителей одной страны, подданных одного государя.
Наконец, исторически позднейшей является гражданская трактовка рассматриваемого понятия: нация как согражданство. Все эти значения в различной мере закрепились в культурных традициях разных народов и уже поэтому в разных культурах неодинаково отношение к семантике понятия «нация» и производного от него «национализма». Например, в англосаксонском мире, где преобладают неэтнические трактовки нации и национализма, отношение к ним более нейтральное, чем в немецком обществе, где эти термины используются преимущественно в этнокультурном значении и с отрицательной коннотацией. Весьма своеобразной была эволюция этих терминов в России на протяжении разных периодов ее истории 1.
В современной России идея гражданской нации явно не доминирует. В бытовом языке и в политическом дискурсе господствуют традиционные для нашей страны представления о нации, отождествляющие ее с этничностью и даже расой. В либеральных кругах отношение к политической нации несколько иное: бóльшая часть российских либералов признает важность и позитивность ее развития, но применительно не к России, а к другим республикам бывшего СССР. Например, трудно найти человека, который, считая себя либералом, не признавал бы важности становления украинского национального государства и гражданской нации.
Применительно же к России эта задача считается либо не существенной, либо устаревшей для нынешней «постнациональной» эпохи и уж точно никак не связанной с развитием либерализма. Еще реже в российском либеральном дискурсе прослеживается хоть какая-то связь между всплеском национал-популизма на Западе и проблемами эрозии гражданской нации. Как правило, этот всплеск объясняется иными причинами; данная позиция отразилась и в либеральной дискуссии на страницах этой книги.
В противоположность таким воззрениям мы выдвигаем следующую систему гипотез:
- гражданская нация является одной из важнейших предпосылок как становления либерально-демократических режимов, так и их эффективного функционирования в современную эпоху. Гипотеза проверяется на основе изучения двух типов отклонения от этой нормы (в России и в странах Запада) и выявления связанных с этим дисфункций;
- пример России показывает, что слабость гражданского общества и ряда других признаков гражданской нации к началу 1990-х годов, а в еще большей мере целенаправленное подавление зачатков национально-гражданского самосознания, гражданского активизма и консолидации с начала 2000-х сильно затрудняют утверждение в стране либеральной демократии;
- страны Западной Европы и США демонстрируют другой вид дисфункции, а именно последствия «эрозии» уже сложившихся институтов гражданской нации, их сегментации и замены нелиберальными коммуналистскими отношениями (раскол общества на замкнутые общины), что в значительной мере обусловило актуальные проблемы национал-популизма.
Охарактеризуем далее три основные источника современной теории гражданской нации.
Это, во-первых, условия свободы Эрнеста Геллнера. Союз либерализма и демократии, как отмечали многие политические философы, ― весьма хрупкое историческое создание, сотканное из двух разных традиций: либеральной традиции Джона Локка, ориентированной на индивидуальные свободы, и демократической традиции Жан-Жака Руссо, исходящей из идеи верховенства коллективного народного суверенитета и гражданского равноправия 1.
Гражданское общество противостоит как сегментированным традиционным обществам, так и надгосударственным идеократическим образованиям, названным Геллнером уммами, по образцу исламской уммы. По мнению Геллнера, народы, которые были долгое время под властью «коммунистической уммы», оказались не ближе к демократии, чем пленники уммы исламской 2.
Гражданское общество является важнейшим условием политической свободы, поскольку только оно способно «служить противовесом государству, не мешая ему, выполнять роль миротворца и арбитра между основными группами интересов…» 3.
Вместе с тем само появление гражданского общества обусловлено множеством исторических обстоятельств, поэтому «до сих пор во многих (и весьма обширных) частях нашего мира не существует того, что обозначается этим термином. <…> Наиболее остро это проявилось в тех обществах, где все стороны жизни были строго централизованы, где существовала единая политическая, экономическая и идеологическая иерархия, не допускавшая никакого соперничества, и где единственная точка зрения служила мерилом истины и правоты небольшой группы людей. В итоге эти общества пребывали в разобщенном, атомизированном состоянии…» 4.
Геллнер очень подробно и глубоко проанализировал понятие гражданского общества, но не использовал понятие гражданской нации. Почему? Не претендуя на исчерпывающие объяснения данного обстоятельства, назовем лишь несколько причин.
Во-первых, этот философ и социальный антрополог рассматривал гражданское общество с социально-политических позиций, а нацию ― только как явление культуры. Такая позиция сложилась у Геллнера в период подготовки его первой и самой известной книги «Нации и национализм» (Nations and Nationalism, 1983; рус. пер. 1991).
Во-вторых, Геллнер изучал не столько нации, сколько национализм, а нации были лишь побочным продуктом национализма. Его знаменитый афоризм 1980-х «именно национализм порождает нации, а не наоборот» цитировался в бесчисленном количестве публикаций разными авторами, но оказался на редкость неточным при сопоставлении с историческими реалиями. Важно подчеркнуть, что это показал и сам Геллнер в своей последней книге «Условия свободы», написанной десятилетием позже первой и с иных методологических позиций ― на основе историко-генетического анализа.
В этой работе даны убедительные примеры того, как соединение национальной культуры и государственных границ произошло во многих странах Европы (прежде всего на севере континента и на Атлантическом побережье) еще в период Средневековья ― за несколько веков до появления в эпоху модерна сил, которые стали назвать националистами. В Англии же дела для этнических националистов и вовсе не оказалось: «…нация Шекспира, ― пишет Геллнер, ― уже не нуждалась в формировании новой кодифицированной культуры» 1.
И в следующем поясе Европы этнические нации сформировались еще до появления национализма. В Германии, например, она сложилась в эпоху Реформации, но еще долго не была очерчена едиными государственными границами. «То есть были невесты, готовые идти к алтарю, оставалось только найти для них достойных политических женихов. Иначе говоря, здесь требовалось государственное строительство, но не создание новых национальных культур» 2.
Этим строительством занимались не самодеятельные националисты, а государство, активнее других ― прусская монархия, и Геллнер признает, что произошло это «прежде, чем вышел на сцену политический национализм» 3.
В Российской империи этническая фрагментация была почти такой же, как в соседних империях, однако низовой русский национализм всегда был очень слабым, поскольку его функции быстро перехватило и присвоило себе имперское государство, сформировав весьма своеобразный национализм ― «официальную народность», или, иначе говоря, государственный, имперский национализм 2. Эта подмена национализма привела к неодинаковым последствиям в разных регионах и в разные эпохи. Применительно к колонизации Сибири в XVI‒XVII веках государственная монополия на насилие во многом спасла коренные малочисленных народов, защитив их от произвола разных групп самодеятельных колонистов. Зато в ходе покорения Северного Кавказа, особенно Кавказской войны (1817‒1864), само государство осуществляло массовые этнические чистки и в массовом порядке изгоняло народы с их территорий 3. Впоследствии эту страшную традицию депортации народов возродил Сталин, притом в гигантских масштабах и на всей территории страны 4.
Итак, Геллнер не только осознал, но и показал ограниченность своих прежних воззрений на нацию. Вместе с тем он не обогатил (или не успел обогатить) их соединением с его же идеями гражданского общества. Это сделали другие исследователи.
Карл Дойч и Данкварт Растоу рассматривали нацию как «общество, овладевшее государством». Тезис о том, что национальное единство (national unity) является единственным предварительным условием демократизации, впервые был высказан и обоснован известным американским политологом Д. Растоу еще в 1970 году 5.
Он подчеркивал, что национальное единство является «предварительным условием демократизации в том смысле, что оно должно предшествовать всем другим стадиям процесса» 6. Демократия не может существовать без своего главного социального субъекта ― народа, идентифицирующего себя с определенной политией и осознающего свою решающую роль суверена (источника власти) в политической системе. Ссылаясь на исследования Карла Дойча, Растоу утверждал, что национальное единство есть «плод не столько разделяемых всеми установок и убеждений, сколько небезучастности (responsiveness) и взаимодополненности (complementarity)». Далее он разъяснял, что «предварительное условие [перехода к демократии] полнее всего реализуется тогда, когда национальное единство признается на бессознательном уровне, когда оно молчаливо принимается как нечто само собой разумеющееся» 7.
К концу ХХ века идею соединения либерализма и демократии на основе признания народного суверенитета поддерживали не только либеральные обществоведы, но и большинство левых интеллектуалов. Она нашла отражение в так называемой концепции делиберативной демократии Юргена Хабермаса и его последователей, которые подчеркивали, что «народный суверенитет и права человека идут рука об руку, а следовательно, обнаруживают родственность гражданской и личной независимости» 1.
При этом с каждым годом становится все яснее, что синтез либерализма и демократии невозможен без третьего связующего их звена ― гражданской нации, понимаемой как гражданское общество, овладевшее государством для реализации общественных и в этом смысле национальных интересов. В такой форме концепцию «национального единства» в 2000-х стал развивать Ф. Фукуяма, подчеркивавший важную роль в современном мире национального государства и национально-гражданской идентичности: «Успешное общество немыслимо без какого-либо национального строительства и национальной идентичности» 2.
Кстати, эта мысль Фукуямы отражает перемены в его взглядах, ведь в книге 1992 года о «конце истории» этот политический философ называл национальные государства «временными перевалочными пунктами» на пути к мировому господству либеральной демократии. Сейчас «история», кажется, возвращается.
Концепция «национального единства» как предпосылки либеральной демократии хорошо сопрягается еще с одной чрезвычайно плодотворной и важной научной теорией. Это теория Габриеля Алмонда и Сиднея Вербы о гражданской культуре.
В отличие от Геллнера, связывающего политическую нацию лишь с этнической культурой в условиях индустриального общества, Алмонд и Верба показали, опираясь на сравнительные исследования в пяти странах, что само функционирование гражданского общества формирует новую культуру ― гражданскую, не вытесняющую этнические и другие традиционные культуры, а надстраивающуюся над ними. Если Геллнер отделял культуру от политики, то Алмонд и Верба указали на их неразрывную связь и, более того, на важнейшую роль гражданской культуры как условия стабильности политических систем либерально-демократического типа 3.
Она, по мысли авторов, является стадиально высшим типом политической культуры в рамках предложенной ими типологии. Гражданская культура в собственном смысле слова относится к типу активистской культуры, или «культуры участия» (возможно, правильнее было бы сказать «соучастия», поскольку основной функцией гражданской культуры выступает обеспечение социальной интеграции общества, единства действий в достижении общей цели, «общего блага»). Гражданскую культуру можно назвать также «культурой общежития» или «культурой общего блага».
Значение ценности общего блага лучше всего осознается в условиях дефицита этой нормы, так же как значение кислорода чаще всего осознается при его острой нехватке. Известный специалист по экономике развивающихся обществ Пол Коллиер пишет, что главная проблема современных африканских стран состоит в том, что их элиты оказались неспособными создать единую национально-гражданскую культуру и идентичность, «перекрывающую» этнические или племенные идентификации, поэтому налоги здесь воспринимаются как выплата дани коррумпированным правителям, а не как вклад в общее благо 4.
Не многим лучше обстоит дело и в большинстве постсоветских стран. Однако объектом исследований Алмонда и Вербы были не развивающиеся страны, а наиболее развитые, поскольку этих исследователей обуревала тревога по поводу стабильности либеральных демократий в самых процветающих странах мира. В 1980‒90-е годы эти опасения многим казалась преувеличенными и даже надуманными (тогда господствовали иллюзии полной всемирной победы таких режимов, знаменующей собой «конец истории»), однако ныне для них появились серьезные основания.
В условиях стабильности гражданского общества гражданская культура доминирует, она ведет за собой пассивную подданническую культуру и нейтрализует патриархально-консервативную. Однако при ослаблении институтов гражданского общества усиливается роль социальных слоев ― носителей подданнической и консервативной-традиционалистской культур. В этих условиях могут происходить взрывы разрушительной активности «агрессивно-послушных» слоев общества.
Рассмотрим теперь два вида дисфункции гражданской нации: российский случай и западный (в основном западноевропейский).
Российские эксперты высказывают две крайние позиции по вопросу о том, существует ли гражданская нация в России. Согласно одной из них, российская гражданская нация уже есть. Это официальная позиция российской власти, а главный защитник данной концепции академик В. Тишков утверждает, что такая нация существовала и раньше, как в Российской империи, так и в СССР, просто под другими названиями 1.
Другая позиция заключается в том, что нет нации в России и у нее другой тип государственного устройства: она всегда была и остается империй.
На наш взгляд, с момента принятия Конституции 1993 года можно говорить о появлении в России первых формально-юридических признаков государства-нации. Конституционная модель России признает принцип народного суверенитета («Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ», ст. 3, п. 1 Конституции) и правового государства (универсальное юридическое равенство российских граждан на всей территории, ст. 5, п. 2).
Эта Конституция, в отличие от всех предыдущих, не только предполагает равенство прав граждан России, но и содержит процедуры избрания властей Федерации и ее субъектов на основе референдума и свободных выборов. Конституционный статус России как федеративного государства-нации не позволяет делать безапелляционные заявления о том, что Россия в принципе не может быть нацией. Вместе с тем в реальной эволюции российской нации не только формируются предпосылки ее становления, но и наблюдаются противоположные процессы.
В современной России сохраняются и даже укрепляются признаки «имперского синдрома» 2.
Россия ― составное государство, унаследовашее от имперской системы прошлых столетий «имперское тело», то есть многочисленные ареалы компактного расселения ранее колонизированных этнических сообществ, обладающих собственными традиционными культурами.
При этом договорные отношения, взаимные обязательства между центром и регионами, характерные для национальных государств федеративного типа, формировались в России в 1990-е годы, а в 2000-е стали слабеть, уступая место возрождавшейся, точнее целенаправленно возрождаемой, имперской иерархии. В ее рамках центральная власть может произвольно и в одностороннем порядке менять правила игры: вводить не предусмотренные Конституцией управленческие институты (федеральные округа); разрешать или запрещать выборы глав регионов и мэров городов; по своему усмотрению денонсировать договоры о распределении полномочий между центральной властью и властями субъектов Федерации.
Часто задается вопрос, не являются ли доказательством сформированности гражданской нации в России социологические опросы об идентичности россиян. Их результаты таковы: на первом месте всегда ответ «мы ― граждане России», потом уже, на втором, на третьем месте, «я ― татарин», «я ― башкир», «я ― житель Тюмени».
На наш взгляд, эти опросы свидетельствуют лишь о преобладании этатистского (государственнического) сознания над этническим и локально-региональным. Опрошенные подчеркивают свою связь со страной, а не с отдельными местностями или этническими общностями, но это еще не признак проявления активистской гражданской культуры и гражданской нации.
Исследования «Левада-центра» (2006‒2015) показывают, что важнейший признак гражданской нации ― гражданская субъектность, реализация принципа народного суверенитета ― не укрепляется в России, а стремление граждан России участвовать в политической жизни и влиять на нее даже падает по сравнению с 1990-ми годами. Более 2/3 опрошенных (от 67 до 87% в разные годы) устойчиво отмечают, что они «не оказывают какого-либо влияния на политическую и экономическую жизнь в стране или регионе». Доля заинтересованных в участии в общественных делах уменьшилась почти втрое ― с 37% (1999) до 13% (2015). Более половины опрошенных вообще избегают вступать в какой-либо контакт с властью 1.
Люди во многом живут «гаражной экономикой», своим «огородом» и в массе своей не противятся коррупции. В России наблюдается процесс, описанный Э. Фроммом в книге «Бегство от свободы»: атомизированный человек, теряя горизонтальные, гражданские связи, все больше стремится прислониться к сильной личности, к вождю.
Важно подчеркнуть, что этот регресс никак не связан с какими-то особенностями русских как этнического большинства страны.
Те же русские, в том числе и родившиеся в СССР, прекрасно доказывают свою способность к гражданской активности и демонстрируют способности к освоению либерально-демократических норм в странах, где такие нормы не подавляются властями. В России же государство все больше овладевает обществом, поэтому участие граждан в общественной и политической жизни слабеет. Вместо поощрения гражданской активности и других предпосылок, позволивших бы нации реализовать себя, российские власти выстраивают декоративный фасад «единства», «духовных скреп» и «межнационального согласия», призванный скрыть фактическую профанацию проекта гражданской нации. Совокупность политических инструментов, используемых властями, вводит историческое сознание россиян в состояние летаргии.
В нем ныне отсутствует не только национальное согласие относительно ключевых периодов и событий прошлого страны, но и их моральная оценка 2, а потому массовое сознание в высокой степени поддается манипуляциям, в том числе относительно политики власти по созданию «удобного» прошлого за счет скрещивания советских и монархических символов, например сооружения все новых памятников как Сталину, так и царям ― Николаю II, Александру III и даже такой абсолютно одиозной фигуре в российской истории, как Иван Грозный.
Возрождается связь имперской иерархии с религиозной, прежде всего с иерархией Русской православной церкви. Осознавая популярность в России традиционалистских представлений, первые лица государства подчеркивают свою связь с «народностью» по технологии, предложенной еще графом Уваровым: «Православие, самодержавие, народность». Владимир Путин и Дмитрий Медведев постоянно демонстрируют свою православную идентичность, не особо заботясь о защите светского характера государства. В России принят закон о защите чувств верующих, но никто не защищает чувства атеистов. Между тем в стране с преобладанием этатистского сознания государственная поддержка клерикализма ведет к росту различных форм религиозного фундаментализма. Недавно появилась радикальная православная партия «Христианское государство», во многом подражающая запрещенному в России движению «Исламское государство». Воспроизводятся и специфические нормы имперского, милитаристского языка в официальном дискурсе.
Подобно тому как российская дипломатия заново освоила агрессивный язык, напичканный пропагандистскими штампами времен холодной войны, в России к настоящему моменту вызрел и новый-старый дискурс «национальной политики». Изменились лишь лозунги и этикетки: «дружба народов» превратилась в «русский мир» с особым «культурным кодом». Введенная указом президента в 2012 году Стратегия национальной политики способствует бронзовению такого дискурса. По сути, ее главная функция ― придание имперской концепции «официальной народности» нового официального статуса.
При этом нынешняя российская властная иерархия, навязывающая единомыслие и превращающая членов общества в послушные распыленные атомы-песчинки, возрождается с опорой не столько на советскую, левую идеологию, сколько на правую ― имперско-шовинистическую и православно-фундаменталистскую.
Однако чем больше воспроизводится архаичная имперская ситуация, тем актуальнее вопрос, не приводит ли такая практика к долговременным проблемам и растущим дисфункциям в социально-экономической и политической системе.
На наш взгляд, российское общество переживает, но пока не осознает, кризисное состояние своей постимперской ситуации. Этот кризис развивается медленно и неравномерно, но неуклонно, и связан он со столкновением унаследованного «имперского тела» и «имперского порядка» с новыми социальными, экономическими и политическими условиями. Казалось бы, менее всего проявлений этого кризиса можно ожидать в сфере федеративных отношений. Ныне Кремль управляет регионами примерно так, как русские цари управляли провинциями. При этом управление федерацией все больше архаизируется, и сейчас назначение главы российской республики напоминает принцип передачи власти над сатрапиями местному правителю-вассалу.
Положение Бухарского эмирата в Российской империи в некоторых деталях поразительно напоминает ситуацию с отдельными республиками в составе РФ. С 1868 года правителями Бухары стали эмир Музаффар, объявивший за некоторое время до того газават (священную войну) России, и его наследники. Точно так же в 2000 году (сначала как глава временной администрации, а затем как президент) лидером Чечни стал Ахмат Кадыров, ранее (в 1995 году) объявивший газават России, и его наследник Рамзан Кадыров, участвовавший в этой священной войне.
Все похоже, но только ныне неравные статусы территорий вступают в противоречие с конституционной нормой о равноправии субъектов Федерации, и при случае этим могут воспользоваться силы, недовольные неравенством в распределении средств из единого государственного бюджета. Это неравенство и сегодня все болезненнее воспринимается как элитой, так и населением соседних территорий в условиях куда более единого, чем в империи Романовых, информационного и политического пространства России.
И тот факт, что правитель Чечни не подчиняется решениям не только министра образования, но и Верховного суда РФ, не остается незамеченным и сильнейшим образом подрывает общероссийское доверие к государственным институтам 3.
Больше всего воспроизводству традиционной имперской ситуации препятствует такое новое обстоятельство, как радикально возросшая в постсоветские годы социальная и территориальная мобильность населения. В эпоху классических империй народы, как колонизированные, так и жители метрополии, веками сохраняли свои особые уклады, поскольку бóльшая часть населения рождалась и умирала в границах своих этнических территорий. По переписи 1926 года, даже после пертурбаций Гражданской войны, только 25% населения СССР жили за пределами мест, где они родились, тогда как по данным последней российской переписи 2010 года таких было уже более половины (53,8%) 1.
Территориальная мобильность в Российской Федерации иная, чем была в СССР. И масштаб и структура миграционных потоков изменились как за счет прироста «вынужденной миграции» из зон постсоветских конфликтов, так и за счет свободной миграции, когда люди сами выбирают себе место жительства. В Советском Союзе свободные перемещения населения сдерживались государственным регулированием, институтом прописки, дефицитом жилья и отсутствием собственности на него.
Так или иначе, по словам Ж. Зайончковской, после распада СССР свободные миграции в пределах России, а также отток людей из страны и особенно приток в нее из бывших постсоветских республик существенно возросли и стали более разнообразными по сравнению, например, с 1980-ми годами 2.
Россия получила «беспрецедентно высокий миграционный прирост. В расчете на год он был в 2 с лишним раза больше, чем в 80-е годы» 3.
В сложившихся условиях миграции из бывших инокультурных окраин в бывший имперский центр создают условия для широкого распространения расизма и ксенофобии, которые становятся частью компенсаторного, «оборонительного» сознания населения экс-метрополии, переживающего распад имперского пространства.
В 2011‒2013 годах по городам России прокатилась серия столкновений местных жителей с мигрантами. Вначале беспорядки затронули в основном небольшие города и поселки (Сагра, Демьяново, Пугачев и др.), а в 2013 году перекинулись на крупнейшие города и их агломерации ― Бирюлево в Москве, рынок «Апраксин двор» в Санкт-Петербурге. При этом ксенофобия достигла максимума за все время социологических наблюдений в этих городах в постсоветскую эпоху 4.
В 2014‒2015 годах ситуация вновь изменилась ― уровень ксенофобии по отношению к мигрантам из Средней Азии и с Кавказа снизился, внимание общества было переключено на события в Крыму и на Донбассе. Однако значительный потенциал ксенофобии по отношению к выходцам с Северного Кавказа и из стран Центральной Азии сохраняется. За тем фактом, что колониальные завоевания этих территорий в прошлом были наиболее продолжительными, кровавыми и дорогостоящими, скрывается, очевидно, нечто большее, чем просто ирония истории.
В России постимперский синдром ощущается гораздо более остро, чем во многих других странах с имперской историей. Конечно, после распада СССР и чеченской войны прошло существенно меньше времени, чем после завершения французской войны в Алжире (1962) или отмены расовой сегрегации в США (1965). Однако более существенно то обстоятельство, что с тех пор Россия существенно не продвинулась в сторону политической и правовой модернизации. Если в развитых странах с колониальным наследием ему было противопоставлено укрепление гражданских связей и защита прав меньшинств, то в России, по сути, лишь нечто вроде реинкарнации официозного советского дискурса о «дружбе народов».
Участники этнических бунтов в России, в отличие от относительно сходных городских столкновений в тех же Франции или США, не обращаются напрямую к государственным органам (полиции, судам) с требованиями, чтобы те добросовестно исполняли предписанные законом функции. Напротив, толпа требует вершить «правосудие» самостоятельно и наказать виновников того или иного конкретного происшествия, послужившего катализатором волнений.
Будучи отчужденными от институтов власти, от государства, протестующие действуют в логике своей отчужденности, не пытаясь ее преодолеть. Люди не верят в саму возможность повлиять на ситуацию на местном уровне и в масштабах страны. В такой ситуации бунт, вспышка массового недовольства, приобретающая черты этнорасового насилия, является проявлением слабости реальных социальных связей, низкого доверия и отсутствия политической культуры участия.
Важнейшим следствием нереализованности проекта гражданской нации как раз и является слабеющее доверие к общественным институтам и другим членам сообщества, осознанная и активная солидарность в котором подменяется пассивной лояльностью правителю и высшему начальству. Сохранение нынешнего эклектического монстра ― уже не империи, но еще не нации ― представляет собой нарастающую проблему. Накапливается все больше доказательств того, что Россия уже не может жить так, как жила в эпоху классических империй. И дело не только в том, что внешний мир ей этого не позволяет; ее внутреннее устройство включает в себя обширные пространства, занятые новыми институтами, прежде всего экономическими, которые буквально задыхаются в условиях низкого общественного доверия, подавляемого к тому же авторитарным государством.
Тезис, согласно которому кризис либерализма в Европе стал следствием эрозии гражданской нации, не встретил поддержки среди участников дискуссии. Выступавшие в большинстве своем вообще не считали «кризис либеральной Европы» результатом накопления ее застарелых внутренних проблем. По их мнению, это следствие совершенно новых исторических условий, сравнительно недавно обрушившихся на землю.
Например, Андрей Медушевский полагает, «что те модели соотношения либерализма и национализма, которые мы обсуждали до сих пор, это модели предшествующей эпохи, которая являлась эпохой национальных государств, эпохой колониализма, ― во всяком случае, они были во многом отработаны на материале XIX и первой половины ХХ века. Есть сомнения, что эти модели вообще работают сегодня». А вот мнение Дмитрия Травина: «В моем понимании кризис либерализма связан с тем, что мир существует в несколько новых условиях в последние десятилетия три-четыре. Это активное развитие глобализации».
Наиболее распространенным, объяснением подъема антимигрантских настроений и национал-популизма считается консерватизм масс, сопротивляющихся прогрессу, или близкое этому объяснение ― «бунт лузеров», которые не смогли приспособиться к новым условиям глобализации и, не понимая этого, ищут истоки своих бед в притоке мигрантов. Первое, что бросается в глаза при анализе такого дискурса, ― это его вторичность. Он совсем не новый, подобные определения по отношению к массам многократно воспроизводились в разные периоды истории.
Выдающий американский социолог Кристофер Лэш фиксировал подобную риторику в элитарном дискурсе США в 1990-е годы, оценивая ее как «смесь пренебрежения и опаски» 1. В XIX веке западноевропейская городская буржуазия презрительно описывала рабочий люд не иначе как «опасные классы» (classes dangereuses), а крестьянское население провинций ― как «дикарей» (sauvages), подобно тому как современная образованная и высокостатусная публика на Западе обрушивает свой гнев на массы «реднеков», «расистов», «традиционалистов» и «националистов». И как всегда было в истории, упреки и морализаторство в адрес «дикарей» и «неудачников» лишь углубляли символический раскол общества, не приближая к пониманию истинной причины социальных проблем.
Вместе с тем периферийный и малоимущий люд оказался самым большим приверженцем программ праволиберальных партий по сокращению государственных расходов на социальные нужды. Эту идею поддерживают 55% рабочих и 62% офисных служащих 1.
Эти настроения проявились и в реальной политике ― в небывалом за всю послевоенную историю проигрыше социалистических партий как во Франции, так и в Германии, тех самых партий, которые традиционно отстаивают идею «социального государства» и больших расходов на социальные нужды. Удивляет в этом исследовании то, что среди высших слоев общества преобладает (53%) отрицательное отношение к таким сокращениям социальных расходов государства 2. Получается, что противники миграции совсем не всегда антилиберально настроены, в каких-то других аспектах общественной жизни они оказались бóльшими либералами, чем ее защитники.
Представители высших слоев общества твердят о достоинствах мультикультурализма, но никак не расплачиваются за это. Элита не конкурирует с мигрантами на рынке труда, она не встречается с мигрантами в своих «золотых гетто», разве что как с прислугой. Элита может расхваливать достоинства «открытого общества», но зачастую только на словах; в реальности же это общество закрыто для значительной части мигрантов, которые на протяжении нескольких поколений оседают на низших ступенях социально-имущественной лестницы.
В таких странах, как Франция и Великобритания (к Германии это относится в несколько меньшей мере), мигранты концентрируются в беднейших кварталах, с наихудшим медицинским обслуживанием и, что страшнее всего, с наихудшим образованием, надолго закрепляющим их социальное отставание. Неравенство, отмечает Гийюи, получает территориальное закрепление и оборачивается, в сущности, сегрегацией 3.
Понятно, что чем беднее представитель принимающего сообщества, чем дальше живет он от столицы, тем чаще он сталкивается с мигрантами как со своими дешевыми конкурентами на рынке труда и нетребовательными к комфорту соседями в быту. Выразив на выборах президента Франции недоверие ко всем системным партиям, французский избиратель высказался и против лицемерия элитарной морали и элитарного дискурса в отношении мультикультурализма и миграции.
Миграционный кризис лишь усугубил проблему социальных расколов, давно накапливающихся во многих западных обществах, прежде чем выйти наружу в форме «трампизма», Брекзита, успеха «Альтернативы для Германии» на выборах в ФРГ. Парадокс демократий Запада заключается в том, что в определенный момент правящие элиты самоустранились от поиска ответов на эти вопросы. Кристофер Лэш назвал данный феномен «восстанием элит».
Наиболее богатые и влиятельные группы всегда отличались от непривилегированных классов не только социальным статусом, но и соответствующим образом жизни. Однако в прошлом, как доказывал Лэш, элиты являлись неотъемлемой частью своего городского сообщества и публично выражали преданность сообществу национальному. Несмотря на собственное благополучие, они находились в курсе проблем, с которыми изо дня в день сталкивались их сограждане в своей обычной жизни. Сегодняшние привилегированные классы, напротив, живут обособленной от остальных жизнью не только в социальном и символическом, но и в непосредственном географическом смысле. Богатые пригороды и люксовые кварталы мегаполисов отделяют их мир от мира «плохих новостей» и чуждых им проблем.
Если раньше успех привилегированных групп был связан с репутацией, приобретаемой делами на благо жителей местного сообщества и всех соотечественников, то теперь он в большей мере зависит от индивидуальной мобильности, полезных знакомств и личных связей, приобретающих все более глобальный характер. Именно с космополитическим отрывом элит от образа жизни, проблем, ценностей и ожиданий большей части населения своих стран К. Лэш связывал деградацию политических дебатов и фактически предательство элитами демократических идеалов.
Так ведь и вся история человечества проникнута взаимодействием и противодействием популистов и элитистов, которые взаимно разогревают друг друга, подобно тому как борьба «популяров» и «оптиматов» определяла собой историю Древнего Рима. Сегодня же новые формы европейского и американского национализма, принимающие популистскую стилистику, являются не только и не столько протестом «дикарей» против прогресса и глобализации, сколько выражением антиэлитизма, накопившегося практически во всех крупных государствах ЕС и выражающегося, в частности, в беспрецедентном ослаблении в 2015‒2017 годах доверия к ведущим партиям этих стран 1.
В последней трети ХХ века проявилась и постоянно нарастала критика национального государства и самой идеи нации. Одновременно с этим возрастала мода на идею и смутный образ некоего «постнационализма». Эта мода укреплялась вопреки тому, что рассуждения о постнациональном мире все хуже соотносились с реалиями современного мира. Немалая часть современных человеческих сообществ все еще не перешагнула черту трайбализма, традиционных монархий, вождистских или теократических диктатур.
Крупнейшие страны, такие как Россия и Китай, как будто бы тоже не прибавляют оптимизма в ожиданиях развития «мирового гражданства» и «глобальной демократии». Да и США, устами своего нового политического лидера, заявляют не столько о единстве мира, сколько об особой роли в нем своей страны. Самая интегрированная часть глобального мира, Евросоюз, по-прежнему остается всего лишь союзом национальных государств, в котором важнейшие вопросы как внутренней (прежде всего бюджетной), так и внешней политики решаются на основе консенсуса глав национальных государств или глав их правительств.
За несколько лет до наступления масштабного миграционного кризиса, рассорившего европейские правительства, а также до беспрецедентного решения Великобритании о выходе из состава ЕС Фрэнсис Фукуяма отмечал: главная проблема Евросоюза, от решения которой зависит его будущее, состоит не в сложностях экономической интеграции и даже не в работе европейских политических институтов, а в вопросе европейской идентичности. Констатируя системный сбой на этом направлении, философ указывал на то, что «никогда не существовало удачной попытки создать европейский смысл идентичности, европейский смысл гражданства, которое определило бы права и обязанности европейцев по отношению друг к другу за рамками формальных договоров» 2.
Соглашаясь с этим, добавим, что даже если бы и существовал проект конструирования и выращивания общеевропейской наднациональной идентичности, он неминуемо натолкнулся бы на целый ряд объективных трудностей. Европейская идентичность изначально не может опереться на такие важнейшие предпосылки культурного плавильного котла, как единство языка и истории, а потому она заранее проигрывает в конкуренции национальным формам сознания. Для примера мы затронем лишь один из множества аспектов этой проблемы.
В Западной Европе формирование новой исторической памяти и символической политики долгое время было связано с переосмыслением имперского прошлого и преодолением колониального наследия. В целях утверждения «постколониального сознания» переписывались школьные учебники и университетские программы по истории. Напомним, что все страны Западной Европы, стоявшие у истоков европейской интеграции, за исключением Люксембурга, когда-то были имперскими метрополиями. Этот общий опыт, безусловно, объединял национальные стратегии стран Западной Европы.
Здесь возобновились процессы конструирования образов этнически гомогенных наций, а тема мультикультурности в публичном пространстве, мягко говоря, не пользуется популярностью.
Эти различия в политике памяти существенно обострили внутриевропейские противоречия, выходящие за рамки споров об истории. Так, эти различия наглядно проявились и в отношении к приему беженцев между странами западной (во главе с Германией) и восточной частями ЕС во время так называемого кризиса беженцев 2015‒2016 годов. Но все же главная проблема, препятствующая наполнению символическим и практическим смыслом понятия европейского гражданства, заключается, пожалуй, в отсутствии единого европейского гражданского общества как такового, а также в слабости общего публичного (политического) пространства Евросоюза.
Поскольку, по словам Алена Дьекоффа, «европейское гражданское общество находится в лучшем случае в зачаточном состоянии» 1, у обычных европейцев не возникает большой заинтересованности в европейской повестке, выходящей за рамки повестки национальной. Отмечая высокий уровень неучастия на европейских выборах (в среднем в государствах ― основателях ЕС он колеблется в районе 55%, а в других странах еще выше), политолог указывает и на другое обстоятельство ― преобладание интереса к национальной повестке дня над общеевропейской: «подавляющее большинство населения государств-членов [Евросоюза] по-прежнему перемещается исключительно или по большей части внутри национальных границ» 2.
В целом есть множество оснований для вывода не только о высокой живучести национальной идентичности в Европе, но и о тенденции к ее росту. Не уменьшается и вероятность появления новых национальных государств (Каталония, Шотландия, Корсика), которые могут выделиться из состава существующих стран Европы.
Реалии нынешнего века дают все больше подтверждений того, что гражданское общество не может существовать чисто виртуально, в отсутствие чувства солидарности его членов и их практического участия в жизни конкретного национального сообщества. Чарльз Тэйлор еще в начале 2000-х так сформулировал эту мысль: «Гражданская демократия может работать только в том случае, если большинство ее членов убеждено в том, что их политическое общество ― это важное общее дело, и считает свое участие в нем необходимым для сохранения демократии» 3.
А Джеффри Хоскинг, анализируя тенденции последних лет, включая Брекзит, констатирует, что национальному государству и сегодня нет равных как в воспроизводстве «символических систем, создающих и поддерживающих широкое доверие в обществе (generalized trust)», так и в отправлении «функции менеджера публичных рисков (public risk manager)» 4.
Иван Крастев не без основания утверждает, что ныне правильно говорить не столько о новых временах, сколько о «возвращении истории» и доктрин политической классики, восходящих еще к эпохе Французской революции, а именно о возвращении «демократии большинства», которая «увязывается с “естественной” принадлежностью к государству и нации» 5.
В России современные условия развития гражданской нации лишь ухудшаются: власти имитируют наличие демократии и гражданского общества, сильно препятствуя реальному развитию и того и другого. В стране усиливается господство имперского синдрома.
Предлагать в нынешних политических условиях какие-либо практические рекомендации по изменению сложившейся ситуации не имеет смысла, поскольку единственным субъектом управления в России выступает государство, которое ныне не заинтересовано ни в развитии подлинной активности и свободной консолидации граждан, ни в демократизации федеративных отношений. В последние годы в России воспроизводились архаичные методы управления регионами, ранее применяемые царями и лидерами компартии, такие как массовая, почти тотальная замена наместников в провинциях (областях, краях, республиках) страны. Лишь некоторые фигуры вроде главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова остаются неприкосновенными.
Рассчитывать на перемены в нынешней тенденции к «реимпериализации» внутренней, национальной политики можно лишь в некоторой временнóй перспективе, после того как накопление дисфункций в национально-территориальном устройстве страны и управлении государством будет способствовать росту низовой гражданской активности и требований перемен.
Однако эти требования могут оказаться конструктивными и плодотворными лишь в случае понимания обществом реальных причин, порождающих проблемы федеративного общежития. В разъяснение обществу подобных причин свой вклад могут внести исследования, размышления и дискуссии, которые отражены в данной книге. Еще бóльшую роль такие дискуссии могут сыграть в преодолении идейными сторонниками либерализма ряда психологических стереотипов, которые заполонили сознание многих из них. Один из таких предрассудков ― это предубеждение против самих терминов «нация» и особенно «национализм» и ожидание пришествия на землю как мессии некоего крайне неопределенного постнационального мира.
В странах ЕС ситуация с гражданской нацией иная, и сегодня проявляются некоторые признаки, вселяющие умеренный оптимизм в возможность преодоления ее эрозии. В 2010‒2011 годы лидеры ведущих стран ЕС, включая А. Меркель, Н. Саркози и Д. Кэмерона, публично высказались против ошибочной политики «мульткультурализма». При этом ни один из них не выразил и тени сомнения в неизбежности и правомерности роста культурного разнообразия в европейских странах.
Критике подверглась лишь тенденции спонсирования фрагментации общества, образование в нем замкнутых общин, новых гетто, добровольных или вынужденных. Отказ от этой части мультикультурализма произошел и в Канаде, где эта концепция и зародилась, а также в Австралии, одной из первых, еще в начале 1970-х годов, принявших ее в качестве официальной политики. В интеллектуальной среде развитых демократических стран усиливается тенденция, которую немецкий философ Курт Хюбнер еще в 1990-е годы пророчески обозначил как возрождение идеи гражданской нации: «Нация: от забвения к возрождению» 1.
Ныне эту идею поддерживают и обосновывают такие влиятельные фигуры в интеллектуальном мире, как Ч. Тейлор, П.-А. Тагиефф, Ф. Фукуяма, Дж. Хоскинг, И. Крастев и др.
Вместе с тем настораживают все еще сохраняющиеся упрощения, примитивизация в политических оценках причин подъема в последние годы национал-популизма. Мы убеждены, что именно углубляющийся с конца прошлого века национальный раскол в странах Европы и в США создает основные предпосылки для национал-популистской активности и, возможно, это главный интеллектуальный и политический вызов для современного Запада.
Не просто ошибочно, но и крайне опасно отмахиваться от этих проблем как от архаики или как от временного неблагополучия начального периода глобализации, вроде детской болезни, которая сама проходит с возрастом.
Странам с либерально-демократическим режимом придется искать фундаментальный выход из этой проблемы с такой же настойчивостью, с какой в 1950‒70-е годы шел поиск и апробация моделей «социального партнерства» в экономической сфере. Уже к 1980-м годам это принесло заметные положительные результаты, а ныне необходим поиск аналогичных моделей уже не только в сфере трудовых отношений, но и в масштабах городского и национального общежития.
Укрепление национально-гражданского единства не ослабит, а, напротив, усилит общеевропейскую, а возможно, и общечеловеческую солидарность. Мала вероятность реальной, недекларативной любви к человечеству у людей, принципиально неспособных уживаться со своими соседями по дому, району и городу.
Первый тип ― тип политического размежевания, когда в общем государстве создаются автономные политические структуры, существующие в рамках федераций или конфедераций (классический пример ― Бельгия).
Второй тип ― так называемые этнические демократии, в которых политика государства осуществляется от имени одной доминирующей этнической группы. Другие группы при этом не подавляются, наделяются основными гражданскими правами, в том числе правом на собственную идентичность, на создание культурных автономий. Этнические и культурные меньшинства обладают специальными индивидуальными правами, например правом создавать ассоциации. Третий тип ― сообщественная демократия (А. Лейпхарт, «Демократия в многосоставных обществах»). В сложных многоэтнических и многокультурных обществах такая демократия работает при наличии во власти большой коалиции представителей сегментов общества, участии всех сегментов в управлении, наличии права вето для защиты прав меньшинств, пропорциональности и высокой автономности сегментов (пример ― Швейцария). Однако опыт становления ряда африканских государств (в том числе Нигерии) показал, что такая модель нередко способна вести к распаду и росту конфликтности в многосоставных обществах, а не к консолидации демократии.
В ответ на эти трудности была предложена модель интегральной демократии, в основе которой лежат две основные идеи.
Во-первых, перенос акцента с существующих этнических и культурных различий на новую идентичность (например, на общегосударственную либо региональную). При этом границы такого региона должны быть шире, чем территория традиционного проживания того или иного сообщества. Для федераций предлагается формирование их регионов с границами, не совпадающими с этническими. Рекомендуется рассекать этнические сегменты, с тем чтобы люди ассоциировали себя с регионом, а не с этнической общностью.
Во-вторых, политическое представительство также должно структурироваться на смешанной, а не на сегментированной основе, а всей демократии необходима для устойчивости консолидированная фигура лидера, способная сдерживать конфликты. В таких демократиях лучше работают не большие коалиции, как у Лейпхарта, а консолидирующие многосоставные общества сильные консенсусные лидеры.
После 1991 года постсоветская Россия в целом двинулась именно в таком направлении (за исключением политически вынужденного отказа от перенарезки границ субъектов федерации). Сама Ноженко считала бы полезным шагом к либеральной демократии в России укрупнение регионов, с тем чтобы культурное и этническое размежевание не совпадало с административными границами субъектов Федерации.
Главная задача таких изменений ― формирование новой общегражданской идентичности и региональной идентичности, которые становятся основными для самоидентификации индивидов, убирая или снижая важность этнической или культурной идентификации, позволяя индивиду ощущать себя гражданином государства и жителем своего региона, границы которого не совпадают с ареалом проживания той или иной этнической группы.
Как помочь сложиться гражданской нации Эмиля Паина в условиях постсоветских реалий и полиэтничности России? Как проложить дорогу гражданскому участию, складыванию гражданской нации и на этой основе ― либеральной демократии? Возможно, полезной может оказаться исторически влиятельная концепция от том, что «нет налогов без политического представительства», лишенная этнокультурной окраски и обращенная к интересам и правам каждого. По сути, речь в данном случае идет о складывании нации на основе рационального обмена прав на обязанности.
Никлас Дрекслер отмечает, что подъем правого национализма в Европе, наблюдаемый повсеместно, развивается на фоне периода слабости европейских институтов, таких как институты ЕС. Эти институты не смогли в полной мере ответить на вызовы экономического кризиса и ослабления безопасности. Кризис в ЕС принял затяжной характер и будет продолжаться еще долго. Результатами кризиса стали дефицит инвестиций в Южной Европе, высокий уровень безработицы в Португалии, Италии, Испании ― в отличие от Германии, которая оказалась более устойчивой. Ключевой либеральный принцип открытости границ в ЕС и свободы передвижения людей оказался в результате под угрозой.
В ФРГ националистическая и изоляционистская партия «Альтернатива для Германии» (AfD) умело забрала голоса от всех других партий. Особенно поддержку тех, кто не принимал участия в прежних выборах, а также мужчин в возрасте 25‒34 лет. Это экономически неудовлетворенные люди, рабочие, безработные, при этом три самые главные их озабоченности таковы: миграция беженцев, безопасность, социальная справедливость. С другой стороны, есть среди них и люди с университетскими дипломами, самозанятые, госслужащие. Если бы у AfD в Германии нашелся лидер-харизматик типа Трампа, они смогли бы еще больше расширить базу поддержки. Внутри AfD существует раскол между открытыми расистами и более умеренными ксенофобами (как и в Народном фронте Марин Ле Пен).
Секрет популярности крайне правых националистов в Европе заключен в их базовом слогане, который можно сформулировать как «Вернем себе контроль!». Этот лозунг включает в себя ожидания социальной защиты, защиты от финансового кризиса, от безработицы, защиты национальных границ от мигрантов и т.д. От лидеров и институтов ЕС требуются в ответ на это давление переговоры и действенные решения по регулированию миграции и обучению мигрантов, по их интеграции в общество, по контролю на границах Европы и Востока. Националисты и популисты, видя слабость институтов ЕС, предлагают защиту и действия в рамках национальных государств и границ и получают немалую поддержку избирателей.
Действительно, существует кризис доверия среднего класса Европы к государству и правящим элитам. Реальный (неглобализированный) средний класс потерял в последние десятилетия свое влияние и хочет его вернуть. Верх в политике взяла глобализированная часть среднего класса, то есть те, кто выигрывает от глобализации. Таких можно назвать глобалистским средним классом. Это менеджеры, которые делают карьеры в международных корпорациях и организациях, занимают международные рабочие места. Это огромная индустрия туризма и услуг. Это класс интеллектуалов с его идеалами открытых границ и открытого обмена идеями. Все они поддерживают идеи прав человека и стремятся извлечь выгоду из процессов глобализации. В основном же среднем классе возникло ощущение, что глобализированная элита захватила всю власть и напрочь забыла о его интересах. Отсюда требование «взять контроль обратно», которое означает и возвращение среднего класса в реальную политику и власть.
Требование вернуть контроль является требованием одновременно националистическим, протекционистским, авторитарным и демократическим. Первоначально ХДС и ХСС в Германии были правыми партиями, сочетающими консервативные ценности с экономическим либерализмом. Но в последние годы эти партии сдвинулись влево, и их место теперь отчасти заняла AfD.
Для консолидации либеральной демократии необходимо налаживать каналы коммуникации между сельскими и городскими общинами, между средним классом и глобализированной элитой. Необходимо укреплять местные сообщества и массовые народные партии, ведь сегодня в Германии только 2% граждан состоят в партиях, тогда как еще 10 лет назад членами народных партий были десятки процентов.
Также необходимо делать ставку на то, что можно назвать конституционными ценностями или же конституционным патриотизмом. Если исторически либерализм фокусировался на негативной свободе ― защите от принуждения и насилия со стороны государства, то теперь понимание прав человека стало гораздо более широким, включая в себя такие ценности, как свобода слова, свобода передвижения, большая социальная ответственность и др. Защита свободы на основе конституционного патриотизма поможет укрепить либеральную демократию на неэтнической общегражданской основе.
Третья задача для европейских либералов ― реформа и укрепление институтов Европейского союза. Необходимо наделить институты ЕС возможностью решать накопившиеся в Союзе проблемы на общеевропейском уровне. Если, к примеру, в ЕС достигнута уже свобода передвижения, то требуется создание и общей зоны безопасности. Если проблема миграции касается всей Европы, то и решение должно быть европейским, а не национальным. Необходимо показать гражданам ЕС, что Союз способен успешно действовать. Сам по себе ЕС уже пример успеха правильных принципов ― его концепция является всеобъемлющей и отвергает ксенофобию.
Правые националисты и популисты радикально упрощают картину мира и предлагают простые и утопические рецепты решения проблем. Либералы должны противопоставить этому упрощенчеству и утопизму реальные решения, найти способы преодолеть возникшие трудности. Кроме того, должен неукоснительно действовать закон, правоприменение ― чтобы доказать европейцам, что безопасность может быть успешно защищена в либеральном демократическом государстве.
Развитие принципов субсидиарности, региональной кооперации и интеграции в Европе, в том числе поверх государственных границ, также из числа либеральных рецептов. Такие примеры ― юго-восток Финляндии и Ленинградская область, Тироль и Южный Тироль, регионы на стыке границ Польши, Чехии и Венгрии и др. Важно в этой связи отметить, что наиболее сильные националистические настроения наблюдаются в тех регионах, где меньше всего иностранцев и меньше всего опыта реальной межнациональной и межрегиональной интеграции.
Либералы могли бы обратить на это внимание, разрабатывая механизмы наднационального регулирования, включая регулирование миграции. Что касается России, то приоритет политических и конституционных реформ не обеспечил и не обеспечивает ожидаемой консолидации демократии и целостности страны. Куда важнее экономический и социальный прогресс, модернизация всей общественной среды и только после этого ― переход к политическим и социальным преобразованиям в либеральном духе.
Сегодня федерализма в России нет, произошла дефедерализация и унитаризация. Но это же создает в будущем принципиальную возможность переучредить федерацию заново, либо пойдя на перенарезку границ с отказом от этнического признака, как предлагает М. Ноженко, либо же наложив на существующие регионы другую сетку административных, экономических и политических образований, не совпадающих с границами нынешних субъектов.
В этом ряду находится и обсуждаемая сегодня идея развития примерно 20 крупных городских агломераций. Их успешное развитие как центра современной экономики и общественных практик может помочь развитию демократии и либерализма без ломки сложившихся регионов и административных структур.
Такова природа и антиглобалистских движений ― во всех трудностях виноваты для них капитализм и капиталисты. Корень этих общественных реакций ― в самих социальных и экономических проблемах, и только решение этих проблем по существу может быть содержательным либеральным ответом.
Либеральный подход должен заключаться в открытом признании проблем, культурного и этнического разнообразия, того факта, что модернизация может встречать сопротивление в разных социокультурных группах. Решать эти сложности предстоит в ходе диалога и компромиссов.
Необходимо демонтировать инструменты промывания мозгов как в России, так и в Европе. Смягчение нравов, практика терпимости и компромиссов ― это не вопрос политики, не вопрос аппарата принуждения. Отрицательное отношение к мигрантам вовсе не всегда автоматически означает расизм или ксенофобию. Например, влиятельная в Финляндии правая партия «Истинные финны» рассуждает так: мы свое социальное государство создавали для поддержки и защиты нашего общества ― граждан Финляндии. Для тех граждан, которые попадут в тяжелую ситуацию, обеднеют, для солидарной помощи им со стороны общества и государства. И вдруг в Финляндию приезжают люди, которые автоматически записываются в бедные, их селят в общежития для наших студентов, где они живут годами, не работают, получают пособия. То есть отношение многих финнов к ним и к этой проблеме вовсе не ненависть на национальной почве или расизм, а вполне рациональный подход. И либеральное решение здесь ― частичный демонтаж раздутого социального государства, уход от разного рода паразитизма. Тогда многие вопросы, многие источники нынешних трений будут сняты.
Многие видят источник зла не в приезжих, а в элите, которая привезла мигрантов и тратит общие деньги на них. При этом партия «истинных финнов» заняла второе место на парламентских выборах в Финляндии. Победили центристы, либералы оказались третьими. Что сделали после этого либералы? Вошли в правительство с центристами и правыми и спокойно там работают ― что не привело ни к каким потрясениям и националистическим эксцессам. Надо не побеждать популистов, а объяснять обществу ценность либеральной программы. Принцип либерализма ― равенство всех и уважение ко всем.
Либералы не должны атаковать людей за их взгляды и озабоченности. Важно отстаивать и продвигать либеральные позитивные идеалы и ценности, как и позитивные институты ― национальные и общеевропейские. Экстремисты только выигрывают от нападок и обвинений в свой адрес. Если обвинять целые сообщества (например, мусульман или почти половину американцев, проголосовавших за Трампа) и исключать их из общества и политики ― это только усилит предпосылки для экстремизма и терроризма. Такие подходы неприемлемы для либералов. Либералы должны предлагать рецепты включенности, а не исключенности. В том числе не уклоняться от дебатов с представителями националистических и популистских партий, открыто представляя и защищая либеральные аргументы.
Рано говорить о преодолении исторических национальных государств, о появлении прекрасного постнационального мира, а также о национальных государствах как опасности для либеральных свобод. Национальные государства остаются местом бытования демократии и социальных систем, как и местом защиты либеральных ценностей.
Следует не противопоставлять либерализм национальным государствам и гражданской нации, а решать задачи защиты свободы в рамках национальной либеральной демократии, опирающейся на активное гражданское общество. В том числе и задачу разумного регулирования миграции, с полным соблюдением прав человека и прав культурных, религиозных и этнических меньшинств, не позволяя при этом формироваться разного рода гетто, содействуя возможно полной интеграции и включенности в общественно-политическую жизнь национальных гражданских обществ всех их сегментов. Формирование гражданской культуры всех и для всех должно стать основой существования и развития современных либеральных демократий.
Либералам следует не отрицать национализм в принципе, а стремиться к воплощению интегративной (в форме гражданского общества и гражданской культуры) функции национализма. Требуется осуществить переход от формально-юридического гражданства к реальному гражданству индивидуального (в том числе политического) участия и ответственности за общество, за общее благо.
Либералы нашего времени должны открыто смотреть на проблемы и предлагать их решение по существу, в диалоге с другими политическими силами. Государства обязаны жестко применять закон равно ко всем, защищая общественную безопасность в рамках либеральных конституций. Гражданскую нацию невозможно сконструировать сверху, чтобы она сложилась, необходимо создавать условия для повседневного участия граждан в самоуправлении и политике, в демократических процессах ― от местного самоуправления до национального и европейского уровней. Либеральная демократия в странах, где еще не сложилась гражданская нация и гражданская культура, невозможна. В европейских странах эта задача в целом решена (хоть и подвергается раз за разом испытаниям), в России ― нет.
Более того, в последние годы идет авторитарный откат и граждане все больше отчуждаются от политики, власти, управления, общего блага. Проект формирования демократической федерации замещается проектом реставрации имперского государства.
На Западе элиты оторвались от демократической основы своих обществ и должны вернуть эту связь и общественное доверие. Средний класс должен вернуть себе решающую роль в национальной и европейской политике. Необходимо развернуть вспять процесс фрагментации демократических обществ. Требуется усилить коммуникации между городом и деревней, между регионами, коммуникации внутри обществ. Требует поддержки конституционный патриотизм, основанный на либеральных и демократических ценностях.
ЕС обязан продемонстрировать способность ответить на вызовы на европейском уровне, его институты должны быть расширены и усилены. Лучшим ответом на нелиберальные вызовы и движения будет практическая реализация современных либеральных решений в области экономики, социальной сферы, миграции и т.д.
Новый российский авторитаризм стремится удерживать единство и стабильность чрезвычайно сложной и многонациональной России старыми имперскими методами принуждения и строительства вертикали власти. Это принципиально отчуждает народ от идей общего блага и участия в судьбах страны. Внешне страна становится сильнее, но ее фундамент разрушается. Только сочетание реального местного самоуправления, реального федерализма, широкого гражданского и политического участия, формирующих тем самым надэтническую гражданскую культуру и идентичность, является подлинно либеральным ответом на серьезные вызовы, стоящие перед Россией. В интересах общества «овладеть государством» и направить его на путь служения общему благу.
и следите за обновлениями!
Руководитель бюро Фонда Фридриха Науманна в России (в 2012-2020 годах)
Он обучался политическим наукам, философии и экономике в Мюнхене и получил ученую степень магистра в области политической стратегии и коммуникации в Кентском Университете. Также был советником либерального депутата Европарламента.
Это зависит от того, как понимаются либеральные ценности, потому что либерализм ― это прежде всего приоритет индивидуальной свободы и ответственности, что вовсе не означает анархию. Самая популярная идея в экономике Германии ― ордолиберализм 1. Мы знаем, что антимонопольные институты могут использоваться не должным образом, но свободный рынок возможен только там, где есть общие правила.
В программе современных немецких либералов акцент сделан на необходимости бóльших инвестиций в образование. Это типично либеральный ответ: нужно много денег на образование, что даст больше возможностей для большего числа людей, которые тогда смогут полнее использовать свою индивидуальную свободу и ответственность.
Говоря о России, глава Московского представительства Фонда Фридриха Науманна (в 2012-2020 годах) Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен вспомнил о том, что в 2016 году его Фонд провел опрос, в котором интересовался мнением россиян о человеческих ценностях и об экономике. Было опрошено более 1200 человек во всех регионах.
Один из вопросов был такой: какая экономическая система лучше для вас: система, где государство организует и планирует все, или же рыночная экономика? Почти 60% россиян высказались за государство. За то, чтобы государство планировало все. И лишь 26 или 27% выступили за рыночную экономику.
Второй вопрос был более экстремальным: считаете ли вы, что государство должно контролировать цены на основные продукты питания? 96% россиян ответили утвердительно. И последний вопрос: вы считаете, что возможно стать богатым и получить миллионы рублей за честную работу? 70% ответили ― нет, это невозможно.
Вызов первый ― государство всеобщего благосостояния, в котором собираются высокие налоги, а собранные ресурсы перераспределяются потом через государственный бюджет. В этой системе вызовом либерализму является высокое налогообложение. Экономисты либерального направления считают, что вмешательство государства должно быть минимальным и налоговое бремя также должно быть минимальным. Поэтому большое перераспределение средств через государственный бюджет ― это явный вызов либерализму.
Второй вызов ― государственная собственность. Это особенно актуально для нашей страны, где в эпоху СССР огосударствлено было практически все, но эта же проблема существовала не только в так называемых социалистических странах. После Второй Мировой войны широкая национализация была проведена в самых разных европейских и азиатских странах. Государственная собственность и государственное управление также бросают вызов либерализму, причем, по мнению Травина, это более жесткий, более явный вызов либерализму, чем высокое налоговое бремя и государство всеобщего благоденствия.
Третий вызов либерализму ― протекционизм: высокие таможенные пошлины, нетаможенные ограничения, то есть различные препятствия свободе торговли, а также свободе движения капиталов, технологий, рабочей силы, помехи их движению через границу. У протекционизма, пожалуй, самая давняя история. Надо говорить еще об эпохе меркантилизма, о Кольбере, но если не заходить так далеко, то явный крен в сторону протекционизма наметился еще с 80-х годов XIX века после нескольких десятилетий свободного развития экономики. Особо было подчеркнуто: иногда говорят, что только межвоенный период (1918‒1939) был протекционистским. Это так, но самое начало этого явления ― 1880-е годы. Сегодня мы видим, что идеи протекционизма снова активно насаждаются. В частности, вызов Трампа ― это в известной степени вызов со стороны протекционизма.
В принципе, наверное, можно упомянуть еще и о четвертом вызове ― об экспансионистской политике центральных банков (количественное смягчение и т.д.). Но это узкоэкономический вопрос, а первые три вызова касаются идеологии либерализма, самых его основ.
По мнению Дмитрия Травина, в первой трети XXI века первый вызов ― со стороны государства всеобщего благосостояния ― не самый главный. Почему? Потому что с этим все равно ничего не сделаешь. На дискуссии по социальной политике 1 Юрий Кузнецов заострил мысль о том, что мы не переломим тенденцию к созданию широкого социального государства. Эта тенденция сформировалась, когда доля налогов в ВВП возрастала до конца 1970-х ― 1980-х годов. Потом в общем и целом наступило состояние равновесия, стабилизации.
Представляется, что либералам сегодня было бы нереалистично настаивать на том, чтобы налоговое бремя не превышало пяти или десяти процентов ВВП. Этого не будет никогда. Можно биться головой о стену, но, поскольку приходится действовать в реальной политической сфере, не удастся найти такие группы интересов, которые бы согласились поддержать столь радикальную либеральную политику. Если либералы будут продолжать настаивать на этих принципах, то в любой стране, не только в России, окажутся в меньшинстве. В принципе, конечно, надо стремиться к снижению налогового бремени, но надеяться на большую удачу в этой сфере вряд ли реально.
Более того, Дмитрию Травину кажется, что в этом вопросе установился консенсус между различными политическими силами. Есть общее понимание того, что дальше увеличивать налоговое бремя нереалистично, потому что это подрывает экономику и нет таких влиятельных государственников, которые могли бы продавить резкое увеличение налогового бремени в какой-нибудь стране, кроме экзотической Венесуэлы или чего-нибудь в этом роде. Но и сокращение социальных гарантий никто не поддерживает. Так что и туда и туда, пожалуй, не двинуться и этот вопрос уже отыгран дискуссиями прошлых десятилетий.
Второе. Государственная собственность. С этим даже проще. Отказ от идеи массированного распространения государственной собственности наметился уже в 1980-е годы, приватизация прошла по всем значимым странам ― не только в России и в странах Восточной Европы, которые были в советском блоке, но и в Великобритании, во Франции, в Австрии. В общем, всюду осуществились приватизационные программы, и, в принципе, среди экономистов маргиналами сегодня были бы те, кто предлагал бы расширять государственную собственность. Поэтому это тоже не главная опасность для либералов. (Опять же, понятно, что Россия ― особый разговор, ведь у нас государственная собственность нарастает очень активно, но она нарастает в связи с общим состоянием политического режима.)
А вот третий вопрос Дмитрию Травину представляется наиболее актуальным ― протекционизм как новый вызов либерализму. Причем вызов, связанный с тенденциями последних десятилетий.
Возможное усиление протекционизма в наши дни основывается не на тех факторах, что отмечались в конце XIX века. Те факторы были в свое время отыграны, группы интересов, которые настаивали на активном протекционизме, потеряли свою силу уже после Второй мировой войны, создание ВТО двинуло мировую экономику к более фритрейдерской системе. Но сегодня, в условиях глобализации, появились очень большие группы интересов, связанных с новым протекционизмом. Это те, кто проигрывает от глобализации. Это те, кто не хотят, чтобы капитал уходил из Соединенных Штатов в Китай и чтобы мексиканец перебежал в Соединенные Штаты, потому что в этом случае они теряют рабочие места.
Либералы должны работать именно в этом направлении. Точнее ― бороться, причем разными способами, как научными, идеологическими, убеждая в том, что протекционизм неэффективен, так и чисто политическими, отыскивая серьезных, влиятельных союзников (тем более что сегодня идет большой передел политических партий во всех странах, и прежде всего на Западе; до России это дойдет несколько позже). В противном случае либералы всегда будут в меньшинстве.
При этом надо понимать, что люди ищут только ту информацию, которая им нужна. Если человек уже сам склоняется к либеральным взглядам, то он придет послушать кого-то из либералов и уточнит свою позицию. Но у него могут быть и стойкие нелиберальные предубеждения. Брайан Каплан написал интересную книгу на этот счет, причем не про российских, а про американских избирателей. Он показал, что нелиберальные предубеждения существуют, и таким людям разъясняй не разъясняй ― они все равно слушать не будут.
Либералы, заметил Дмитрий Травин, по определению стали несчастливы с введением всеобщего избирательного права. С этого момента либеральные партии всегда находятся в меньшинстве. Тезис о том, что либералы рулят миром, давно не актуален. Почему люди думают, что это по-прежнему так, ― отдельный вопрос. Либералы должны со своими сторонниками, со своими избирателями всегда говорить честно, потому что они ждут от нас именно либеральных решений, а не невнятной «осетрины второй свежести». Но мы должны понимать ― а в нашей среде это недостаточно понимается, ― что даже в самых свободных, демократических странах мы будем политической силой на третьем-четвертом месте, а не на первом-втором. В современном государстве это неизбежно, и, как бы мы с Сашей Таммом ни разъясняли людям различные полезные вещи, либералы не могут получить на выборах пятьдесят и больше процентов голосов.
На выборы мы идем со своими тезисами, за своим электоратом и не пытаемся подыгрывать каким-то другим силам, потому что все равно проиграем. Но, после того как мы собрали свой электорат и остались в меньшинстве, мы должны понимать, с кем можно строить коалиции, где главные вызовы либерализму и кто может быть нашим союзником, даже если на выборах мы с ними, как с социал-демократами, резко сталкиваемся.
Скорее всего, именно с социал-демократами либералы в нынешней ситуации могут объединиться в борьбе с протекционистскими тенденциями. В 70‒80-е годы XIX века мы уже имели серьезный опыт перехода от фритрейдерства к протекционизму. Этот переход шел очень трудно. Уходило поколение фритрейдеров, которое доминировало после отмены хлебных законов в Англии и до кризиса 1873 года, протекционистские барьеры становились все выше, и в какой-то момент всем стало казаться, что протекционизм ― это нормально. В 1920‒30-е годы этот процесс достиг своего апогея и привел к фактической стагнации всю европейскую экономику.
Область профессиональных интересов: макроэкономика, денежная теория, политическая экономия австрийской школы.
Продолжая дискуссию, Павел Усанов попытался сформулировать истоки проблем современного либерализма. Об этом в свое время много писал Хайек. А именно: либералы в своем стремлении сохранить то влияние, которое они имели, очень часто становились на путь содержательного компромисса. Знаменитая книга Хайека «Дорога к рабству» и его работа, посвященная социальному государству, показали: есть опасность того, что либерализм превратится в определенную форму своей противоположности ― этатизма.
Тогда классический либерал начнет спорить не о том, нужно или не нужно государство, а должно ли государство регулировать ту или иную сферу, должно ли оно вливать деньги через, условно говоря, правое ухо или через левое ухо. Хайек не раз говорил о том, что есть опасность потери фундаментальных принципов либерализма и замены их межеумочным состоянием. Эта мысль очень актуальна и в наши дни.
Павел Усанов предложил сконцентрироваться на двух прикладных вопросах, связанных с современным либерализмом. Один касается современной финансовой, или денежной, сферы, а другой ― сферы интеллектуальной. Обе сферы наиболее сильно страдают от этатизма, от государственного вмешательства.
Усанов вспоминает, как в 2007 году начался ипотечный кризис в США и как собиравшиеся тогда разного рода либеральные интеллектуальные группы находились в некотором шоке от того, что предложить альтернативу массированному вливанию денег в экономику в той ситуации по сути дела было сложно.
Если посмотреть на то, что произошло в мире за последние 10 лет, то это действительно вызывает опасения. За последние 10 лет денежная база благодаря действиям Федеральной резервной системы США увеличилась с одного триллиона долларов до четырех. Иначе говоря, за эти 10 лет она напечатала столько же долларов, сколько за 100 лет своего существования, с 1913 года. Правда, денежная масса росла не такими темпами, но и она значительно увеличилась. Беспрецедентно низкой является банковская процентная ставка, которая почти 10 лет находилась на уровне ноль процентов. Такая денежная и кредитная политика чревата тем, что повышение процента (а сейчас он уже составляет 1,25) может вызвать новый серьезный финансовый кризис. Либералы должны быть готовы показать, к чему мы сейчас идем, потому что если оценить предшествующий кризис 2007 года, то ситуация схожая: до кризиса ФРС также понизила ставку с 5,25 до 1% и держала ее несколько лет очень низкой.
Если начнется новый финансовый кризис, то тот социальный консенсус, о котором говорит Дмитрий Травин и из которого все сегодня исходят, отнюдь не обязательно сохранится. Мы помним, насколько страшными были предсказания о том, что будет с мировой экономикой в 2009‒2010 годах. Ожидали коллапса и активнейших «социалистических» мер президента Обамы. Он, правда, бóльшую часть из того, что обещал страшного, ― стать новым Рузвельтом ― не сделал и отчасти благодаря этому мировая экономика сама из кризисной ситуации вышла.
Но есть опасения, что финансовые проблемы, которые накопились за последние семь-десять лет, гораздо серьезнее. Потому что такого количества денег в экономике, такой низкой процентной ставки исторически никогда не было. Это создает проблемы для пенсионной системы, которая тоже создает внутренние источники дестабилизации. Это связано и с государственным долгом, который также активно растет. Иначе говоря, мы видим, что в денежно-кредитной сфере государство более чем активно вмешивается в экономику. Это острый вызов либерализму.
Вторая сфера ― интеллектуальная. В последние годы появились влиятельные европейские и американские интеллектуалы ― противники капитализма. Многие, например, знают о популярной книге Томаса Пикетти «Капитал в XXI веке». В ней содержится очень много методологических и фактических ошибок, но главное для нас сейчас не столько в критике этой книги, сколько в констатации факта: современные интеллектуалы все активнее подрывают доверие к либеральной капиталистической экономике и подогревают интерес к расширению власти государства. Если наступит новый финансовый кризис, то общая интеллектуальная атмосфера, зараженная этатизмом, будет требовать возврата к ошибочным и устаревшим мерам: протекционизму, национализации и всему остальному из того же меню. Таким образом, либералам нужно думать об опасностях, которые скрыты в финансовой и в интеллектуальной сферах.
Кстати, есть интересное шведское исследование о том, какие взгляды характерны в наши дни для представителей влиятельной Американской экономической ассоциации. Этим, казалось бы, самым либеральным экономистам в мире задавали вопросы о денежно-кредитной политике, налогах, внешней торговле и т.д. (при этом был установлен сравнительно мягкий критерий для того, чтобы считаться либералом). Как неожиданно выяснилось, большинство членов Американской экономической ассоциации придерживаются достаточно этатистских взглядов на основные вопросы в налоговой и особенно денежно-кредитной сфере.
Все описанные проблемы открывают окно возможностей для либерализма в смысле обсуждения того, что делать с социальным государством. Вне зависимости от характера нынешнего общественного консенсуса, представляется, что внутри самого социального государства существуют острые внутренние противоречия, которые не дают сбалансировать государственные бюджеты.
Почему людей легко убедить в том, что социальное государство в нынешнем виде им невыгодно? Казалось бы, большие налоги, перераспределение и т.д. Но на самом деле бóльшая часть налогов, которые собираются в той же Швеции или во Франции, идет не самым бедным, а перераспределяется среднему и высшему классам. Очень просто показать, что человек, который может сам себя обеспечить, не заинтересован в том, чтобы отдавать деньги, а потом просить их у государства обратно, чтобы купить себе, скажем, велосипед. Иначе говоря, если мы не можем выбрать велосипед, но можем выбрать государство, которое за нас выберет нам велосипед, то здесь существует логическая проблема. Если средний класс способен зарабатывать деньги, которые позволяют ему самому решать свои проблемы, то зачем ему отдавать существенную часть своих денег, чтобы потом искать у государства привилегий?
Богатым, кстати говоря, выделяется огромное количество денег. Если посмотреть на структуру трансфертов, которые люди получают во Франции, например, или в других европейских странах, то мы увидим, что более 80% перераспределения ― от среднего класса к среднему, от среднего к высшему, от высшего к высшему и от высшего к среднему. Согласитесь, это же абсурдно. Если есть какие-то группы интересов, которые от этого выигрывают, то их всегда меньше, чем тех, кто за это платит. Короче говоря, государство не делает свои услуги бесплатными. И в конечном счете огромные платежи оседают в бюрократических структурах, не приносящих выгоду.
В Швеции, например, ситуация выглядит именно так. Бóльшую часть своей экономической истории Швеция была вовсе не социальным государством, а частью глобального капитализма с довольно низким уровнем протекционизма и социальной защиты, что позволило ей стать одним из европейских лидеров по темпам экономического роста. А вот после того, как в 1960‒80-е годы здесь были введены огромные налоги, она превратилась в одного из, лузеров, выражаясь современным языком, и вынуждена была пойти на сокращение государства, что укрепило ее экономику и стимулировало экономический рост. У Швеции теперь гораздо меньшая доля государственных расходов в ВВП, чем у Италии, Австрии, Бельгии, Дании, Греции, Франции, Финляндии. Нет больше никакого шведского социализма.
В России только официальная налоговая нагрузка, которая перераспределяется через бюджет, составляет 46% ВВП. По данным федеральной антимонопольной службы, 70% российской экономики так или иначе завязано на государство. Наш банковский сектор сплошь государственный (крупнейшие банки ― Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк). Наши крупнейшие стройки ― это тоже все государственные деньги. Ни для кого не секрет, что крупнейший бизнес тоже государственный ― «Газпром», «Роснефть» и проч. Наша экономика может быть названа какой угодно, но она не является свободной, открытой рыночной экономикой, это огосударствленная экономика.
Политолог, исследователь Либерального института Фонда Фридриха Науманна
Второй аргумент критиков либеральной экономической политики построен на критике деятельности таких либеральных институтов, как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Однако здесь тоже наблюдается обман зрения. Может быть, они когда-то и были либеральными институтами, но сейчас это не совсем так. Скажем, кредиты, которые дает или не дает по политическим причинам тот же Международный валютный фонд, зачастую являются инструментами стабилизации очень нелиберальных государств и нелиберальных экономик.
То же самое можно сказать и о свободной торговле. Разве, например, Трансатлантическое торговое соглашение ЕС и США ― это соглашение о свободе торговли? Нет. Это всего лишь гармонизация регулирования, но не free trade agreement. Если бы его делали либералы, оно заняло бы одну-две страницы, а не две тысячи. То, что в реальности происходит на всемирном уровне, ― это частичная гармонизация регулирования и появление новых форм протекционизма, а не обеспечение свободного входа в рынок. Так что Трансатлантическое соглашение и другие подобные договоренности ― инструменты и протекционизма тоже.
Почему еще либеральная аргументация неуспешна? Потому что всегда защищает решения либеральных политиков и либералов, которые занимали и занимают какие-то важные официальные позиции. Это в корне неправильно. Либерализм ― это теория, базирующаяся на главенстве принципа самоответственности, на принципе свободы и частной собственности, а не на поддержке лиц, называющих себя либералами, но зачастую проводящих нелиберальную политику.
Это важно понимать при рассмотрении вопросов, связанных с денежной массой и денежной политикой. Все, что говорится об инфляции, базируется на не очень умной дефиниции и определении, что это такое. Денежная политика и низкие ставки, определение ставок и процентов центральными государственными институтами ― важный моральный вопрос о манипулировании личной собственностью. У многих, особенно у господина Драги, председателя Европейского центрального банка, есть интересные аргументы, но они ни разу не либеральные. Опасность политики манипулирования собственностью людей, у которых просто есть деньги, в том, что таким способом осуществляется девальвация собственности. И в долгосрочной перспективе это будет помогать этатистам: они ссылаются на проблемы рыночной экономики как либерального экономического института. Но современная экономика давно не является в полной мере либеральной.
Либералы должны показать, что не все институты, которые называют либеральными, действуют как либеральные институты. И показать, какие либеральные принципы на самом деле важны.
Популярен тезис о том, что якобы свободное движение капитала было причиной экономического роста в Азии и, напротив, отсутствия роста, стагнации в западном мире. Это, конечно, тоже не так. Может быть, движение капитала ― одна из причин роста в Азии, но это не единственная причина. А причина стагнации на Западе прежде всего в отсутствии реформ, в ситуации на рынке труда и на других рынках, и это очень важно показать тоже. Протекционистские аргументы не работают в интеллектуальной сфере, но работают в политике, потому что как инструмент пропаганды они очень успешны.
Сегодня мы наблюдаем не кризис либерализма как идеи, а кризис либералов, которые не смогли убедительно аргументировать принципы либерализма, при этом всегда соглашались на нелиберальные, но популярные в краткосрочной перспективе меры. Немецкие либералы согласились с мерами спасения Греции. Этим они ее не спасли. Если бы в отношении Греции проводилась другая политика, с официальным государственным банкротством, то ситуация там была бы намного лучше, чем сегодня. Либеральная концепция ― это самоответственность. В Греции могут делать что хотят, но другие не должны платить за это.
В Германии, правда, либеральных политиков тоже не слушают, но если они выступают аргументированно, то их понимают. Свобода ― это положительная ценность, надо только объяснить, что это такое. Многие люди хотят ответственно и самостоятельно жить, но большинство при этом будет голосовать за большие этатистские партии по мотивам личной выгоды. В Германии сейчас социал-демократы говорят только о справедливости, но они не могут объяснить, что это такое. В этом их главная проблема. А справедливость очень эмоциональная тема. Свобода тоже очень эмоциональная тема, и мы должны убеждать общество в том, насколько важны для каждого свобода и ответственность.
Тем более, что либералам есть что предъявить.
В Германии была, к примеру, настоящая история успеха либералов ― приватизация «Телекома». Большинство немцев еще помнят, как все было плохо перед этой приватизацией. В Восточной Германии телефон был роскошью, и даже в Западной Германии его ждали год или два. А сегодня никто не ждет. Остался только один вопрос ― какой именно аппарат я возьму. Есть и другая успешная история ― открытие рынка автобусного транспорта. В Германии до 2013 года был запрещен автобусный транспорт между городами (мы могли ехать до Варшавы, а не до Ганновера), чтобы защищать железные дороги, естественную монополию «Дойчебана». А сейчас этот рынок открыт и растет. Молодые люди теперь ездят по стране на автобусах и экономят большие деньги на этом. Так что у либералов есть положительные примеры и привлекательные для людей принципы.
Второй вопрос заключается в том, может ли базовый принцип либерализма ― равенство возможностей ― быть реализован с таким неравенством социального капитала.
И наконец, связан ли кризис Евросоюза и некоторых других институций, которые мы традиционно называем либеральными, с кризисом либерализма или, наоборот, с недостатком либерализма в их деятельности.
Опубликовал ряд работ по философии классического либерализма, был переводчиком и научным редактором переводов на русский язык работ Фридриха Хайека, Рональда Коуза, Гэри Беккера.
Что касается государственной собственности, то на Западе подобная проблематика абсолютно ушла на периферию, это актуально только для России. Но в России вообще происходит перверсия многих понятий и многих терминов, поэтому о ней всякий раз приходится говорить как об особом случае.
По поводу проблемы государства всеобщего благосостояния можно добавить, что она способна стать серьезным вызовом в силу внутренней логики эволюции данного феномена, которая может привести общество на грань финансового и социального краха. Так что в перспективе это далеко не безобидная вещь.
Вообще, все вышеперечисленные проблемы тесно связаны друг с другом. Например, проблема миграции и проблема государства благосостояния ― как бы относились люди к тем же мигрантам, если бы их не нужно было содержать на пособия? В этом смысле в США в конце XIX века и в нынешних развитых странах принципиально разные ситуации.
Возвращаясь к проблеме протекционизма: последовательно либеральная позиция состоит не в заключении двусторонних или многосторонних договоров о свободной торговле, как это практикуется сейчас. Последовательно либеральная позиция была сформулирована Ричардом Кобденом, когда сначала Англия в одностороннем порядке сняла все ограничения на внешнюю торговлю, за ней последовала Франция, и это стало импульсом для всего мира. Сейчас такой практики придерживается только Гонконг.
Что касается США, то с момента своего рождения это всегда была очень протекционистская страна. Поэтому если либеральная позиция заключается в том, что торговля, в том числе и внешняя, это игра с положительной суммой и от нее выигрывают обе стороны, то с точки зрения протекционистского сознания это игра с нулевой суммой и, если я что-то уступил вам, вы что-то должны уступить мне, иначе я в проигрыше. Это всего лишь концептуальная схема, но тем не менее важно знать: все, что сейчас делается в мире с точки зрения внешнеэкономической политики, это не последовательный либерализм. Вот если бы США, как самая крупная и сильная экономика, в одностороннем порядке повторили пример Англии XIX века, это было бы отлично. Но это иллюзия и утопия. Однако мы говорим не только о реалиях, но и о принципах.
Нужно помнить также, что термин «либерализм» претерпел множество превращений и, скажем, в политическом лексиконе США либералами называют сейчас тех, кто занимает антилиберальные позиции. Йозеф Шумпетер говорил еще в 1930-е годы, что противники либерализма в США сделали ему величайший комплимент, присвоив себе его имя. Поэтому терминологически тут надо быть крайне осторожными.
О неравенстве. Вопреки существующим страшилкам с середины нулевых годов произошел разворот вековых трендов и глобальное неравенство стало уменьшаться. Повторяю: уменьшаться, а не увеличиваться, так что не нужно верить сказкам, исходящим от людей с левыми взглядами. Вообще, нельзя сказать, что они ушли на периферию интеллектуальной жизни. Наоборот, примерно с середины 1990-х годов они снова наступают. Большинство интеллектуалов, в том числе экономистов, сдвигается влево, и если этот тренд продолжится, то скоро ситуация в экономической профессии будет напоминать ситуацию в социологии: там практически 99% ― люди левых взглядов. Активнее всего наступление идет на новом фронте, связанном с тематикой неравенства, который был открыт после того, как традиционные левые рецепты и представления по большей части потерпели крах.
Один из авторов и активных участников реализации программы рыночных экономических реформ в России. Он внес большой вклад в реформирование экономики России.
Скажем, в ФРГ есть организация «Баффин» ― нечто среднее между американской Комиссией по ценным бумагам и российским Департаментом лицензирования и надзора. Эта организация выдает такое количество регулятивных документов почти каждодневно, что только очень мужественные люди могут работать в финансовом и банковском секторах Германии. С 1 января 2017 года там начали действовать новые правила, которыми регламентируется, кто с кого какие комиссии может брать. Ситуация, близкая к абсурду. Она характерна и для России. Люди, которые, возможно, в индивидуальном качестве, один на один со своей подушкой придерживаются либеральных взглядов, проводят политику, которая не имеет к либерализму никакого отношения.
Весь финансово-экономический блок российского правительства, включая Центральный банк, согласно официальной точке зрения является глубоко либеральным. Но какую политику они при этом проводят? У нас абсолютно подавлена конкуренция, только 2% населения по сравнению с двадцатью в Европе, по последним опросам, готовы заниматься бизнесом. 70% ВВП ― это государство, усиливающееся, бюрократическое, коррупционное, осуществляющее административное давление на бизнес. Эта ситуация, конечно, абсолютно несопоставима с американской или европейской. Поэтому в современной России либерализма ― микроскопические дозы.
С тем, что дешевые деньги и активная эмиссионная политика ― это угроза либерализму, так как они усиливают вмешательство государства, Андрей Нечаев согласиться не может. Даже самый заядлый либерал не будет оспаривать того факта, что печатание денег ― законная прерогатива государства. Но если не иметь в виду кредитную эмиссию, осуществляемую банками, и выпуск всяких векселей, а рассматривать классическую денежную эмиссию, то вряд ли можно утверждать, что если денежная масса возросла, то и государства стало больше. Является ли мягкая денежная политика признаком либерализма, а жесткая ― нет или наоборот? Ни то ни другое.
Борис Титов, помощник президента Путина, не единственный автор возможных вариантов экономической политики. Его довольно экзотическое предложение ― управляемая эмиссия, когда государственный чиновник и специальный орган будут целевым образом эти деньги распределять на приоритетные и прочие проекты. Это точно не имеет никакого отношения к либерализму, но и к нормальной денежной эмиссии ― тоже. Вообще, в России мера запущенности экономической политики несопоставима со всем остальным миром.
Проектное финансирование, институты развития есть во всем мире, но управляемая эмиссия как инструмент экономического развития ― такого нигде пока не было.
Можно иметь вполне либеральный предпринимательский и инвестиционный климат и при этом проводить жесткую финансовую политику или мягкую финансовую политику. Это вполне совместимо. При абсолютно антилиберальной в целом экономической политике у нас денежная политика Центрального банка является жесткой, а временами даже супержесткой.
Председатель Общероссийского общественного движения «Выбор России», политик, член Координационного совета Экспертной группы «Европейский диалог»
Или госсобственность. В России также можно найти впечатляющие истории успеха. Например, мобильная связь, которая возникла здесь с нуля и с самого начала строилась как частные компании, как конкурентный рынок, ― в итоге блистательные результаты. «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Теле-2», бешено конкурируя друг с другом, ежегодно снижают тарифы и при этом повышают качество обслуживания.
Что касается протекционизма, то Россия протекционистская страна. Самый яркий пример ― контрсанкции, которые были введены против продуктов питания из Европейского союза. При этом на примере Алтайского края можно показать, что протекционизм дает блистательные результаты: появились десятки новых сортов сыра, которых никогда не было, производится пармезан, камамбер, бри. Все на французском оборудовании, более того ― с обучением персонала и с сырными заквасками из Франции. Не исключено, что, когда отменят контрсанкции, эти продукты, к которым уже привык потребитель, станут дешевле и в условиях конкуренции останутся на открытом рынке.
Владимир Рыжков согласился с Сашей Таммом, что МВФ, Всемирный банк и другие организации, которые почему-то маркируются как либеральные, на самом деле сыграли во многих странах, в том числе в России, далеко не лучшую и не либеральную роль.
По поводу денежной эмиссии. Каждый из нас, имея какое-то количество денег, является держателем этого актива. Если государство проводит эмиссию и допускает высокую инфляцию, то оно размывает наш пакет. С либеральной точки зрения, эмиссия должна быть соразмерна экономическому росту, производительности труда, но если просто дать государству право печатать деньги и обесценивать заработанные нами активы, то это разрушение нашей частной собственности. И антилиберальное поведение государства.
Что касается кризиса Европейского союза, то это, действительно, важная тема. Во многом кризис был спровоцирован самими государствами, хотя в нем почему-то обвиняют либералов. Однако не либералы наращивали госдолг Греции, не либералы фальсифицировали статистику южных стран, не либералы поддерживали в некоторых из них социальные системы, которые этим странам были не по карману, и не либералы довели их до банкротства. В ЕС реализуется ряд очень правильных либеральных подходов к конкуренции, единому рынку, четырем свободам, иммиграционной политике, но есть и абсолютно антилиберальные вещи, особенно в регулировании. Хотя в последнее время началось частичное дерегулирование, снимаются излишние бюрократические препоны, больше полномочий делегируется странам-членам. Это очень правильная тенденция, и, если ЕС пойдет таким путем, он только выиграет. А в целом Европейский союз ― суперуспешный проект, и Великобритания, которая сейчас из него выходит, все больше начинает понимать, что издержки выхода будут для нее чрезвычайно велики.
И последнее, о чем никто пока не говорил, ― экология. С одной стороны, как правильно отметил Ростислав Капелюшников, разрастание бюрократического регулирования ― это настоящий бич, главный вызов либерализму и свободе. С другой стороны, и экологическое засорение планеты чудовищное. Бизнес не выдерживает высокие экологические стандарты. Пока людей на планете было мало, один или два миллиарда, с этим можно было мириться, но когда их восемь миллиардов, экономика растет, а бизнес продолжает уничтожать общую для человечества природу, буквально выбрасывая отходы в реки и моря или вывозя мусор в африканские страны, ― в этих условиях регулирование становится жизненно необходимым. Это та область, где либерал должен согласиться увеличивать издержки на бизнес в разумных пределах, чтобы сохранять планету чистой. Экологическое регулирование должно быть одним из приоритетов либерализма в XXI веке.
Реальное богатство ― это реальные активы. При этом если мы соберем цистерну нефти и будем ее у себя держать, а нефть упадет в цене, то мы не будем говорить, что это нелиберально. Америка стала больше нефти производить, нефть упала в цене ― очень даже либерально. Когда же мы собрали больше денег, а они упали в цене, нам кажется это нелиберальным. Мне кажется, это парадокс. Ведь либерализм не религия. Должно быть предложено практическое руководство к действию, и в этом практическом руководстве невозможно по-христиански объявлять, что государство не должно производить эмиссию и мы будем к этому стремиться. Есть реалии. Деньги не богатство. В деньгах собирать богатство невозможно, потому что это приведет к тотальному кризису производства в мире.
И поэтому эмиссия государством денег, если она не способствует нелиберальным процессам: просто регулированию, избранному финансированию, перекосам и дисбалансу, совершенно нормальное и естественное явление. В частности, один из механизмов использования эмиссии — это разумное уменьшение рисков в экономике, что и сделали американцы после кризиса 2008‒2009 годов.
и следите за обновлениями!
Прежде всего, докладчик обратил внимание, что в американской литературе по федерализму нередко встречаются рассуждения о том, что Соединенные Штаты единственная в мире страна, где федералистская организация государственного пространства является не средством для разрешения каких-то сиюминутных политических затруднений, а подлинной целью политического развития.
Несмотря на значительную долю условности, сквозящую в этом тезисе, довольно любопытным кажется противопоставление федерализма как цели и федерализма как средства. Понятно, что в данном отношении каждая федерация выбирает свой собственный путь. Причем далеко не всем государствам по силам не инструментальное, а ценностное отношение к федеративному строительству. Так, российский федерализм (подобно федерализму нигерийскому, индийскому и даже канадскому) до таких высот пока еще не поднялся и в ближайшее время едва ли поднимется. От него и так почти ничего уже не осталось. Федерация у нас всегда была чем-то вроде предмета роскоши, осознать значение которого способны лишь особы, облеченные властью.
Точно так же в средневековой Европе только дворянин мог носить шпагу, зная при этом, как с ней обращаются. Рядовому же гражданину нашей страны, в отличие от рядового американца, федеративное устройство не дает практически ничего. Так, в 1990-е годы население стабильно пребывало за границами той закрытой площадки, на которой федеральные и региональные начальники торговались между собой, занимаясь дележом власти и собственности. Именно поэтому в глазах большинства россиян федеративная идея пуста и лишена смысла, что регулярно фиксируется в ходе опросов общественного мнения.
Европейцам, углубляющим масштабный федералистский эксперимент в лице Европейского союза, также предстоит делать соответствующий выбор. Им нужно решить, федерализм для Европы ― цель или средство? И хотя местная политическая традиция имеет глубокие корни, не стоит безоглядно верить в то, будто в молодой (а по историческим меркам ЕС довольно молод) квазифедерации возобладает именно личностно-целевая, а не формально-правовая трактовка федералистской идеи. В континентальной Европе, в отличие от Америки, слишком сильно чувство иерархичности и регламентации общественной жизни. Европейцы понимают, что в ряду переменных, которые задают степень свободы индивида, первейшая роль принадлежит государственной власти. Именно об этом свидетельствует наблюдаемая в последние десятилетия увлеченность европейских политиков старательно реанимируемой средневековой идеей субсидиарности.
Данное обстоятельство обнаруживает неожиданное сходство между европейскими и российскими путями государственного строительства. Изначально принцип субсидиарности представлял собой один из элементов социальной доктрины католицизма. В своей светской трактовке он предполагает, что вышестоящие уровни власти должны передавать на нижние этажи любые полномочия, которые «низы» способны освоить самостоятельно. Иначе говоря, то, что можно решить на уровне сельской общины или муниципалитета, не нужно выносить наверх и подкреплять санкцией губернатора или национального правительства. Интересно, что в посткоммунистической России этот подход, самоочевидность которого с рациональной точки зрения не вызывает ни малейших сомнений, пользовался немалым почетом. В освоении именно этого, узкого, сегмента «европейских ценностей» мы зашли столь далеко, что вывели институты местного самоуправления за границы системы государственной власти, зафиксировав данный факт в Основном законе 1993 года. В итоге обществу и низовым управленческим структурам показалось, что центральная власть более не претендует на мелочную регламентацию их повседневных занятий, западники внутри страны отпраздновали очередную символическую победу, а их доброжелатели за рубежом получили еще одно подтверждение стремления «демократической России» приобщиться к западным стандартам.
Обычно европейские уроки даются россиянам с трудом, ведь по части иноземных ценностей Россия ― ученик неблагодарный. Но тут произошла по-настоящему странная вещь: чужая «новинка» в 1990‒2000-е вдруг вызвала в нашей стране не просто живейшее общественное внимание, но и пристальный интерес властей, воспринявших одну из любимых европейских концепций с неожиданной благосклонностью. Почему? Загадка разрешается просто. Идеология субсидиарности не вызывает отторжения у российского правящего класса, поскольку в этом своем аспекте европейский подход к общественной жизни не только не противоречит отечественной политической традиции, но и весьма органично сочетается с ней. Вполне понимая, что высказываемая им гипотеза может показаться странной, автор доклада подкрепил ее некоторыми доводами.
Для начала он задался вопросом, в чем же заключается наиболее характерная особенность российского федерализма времен Владимира Путина. В отличие от ельцинского периода, когда составным частям страны предлагалось самостоятельно определять, сколько суверенитета им нужно, российский федерализм, реформированный за годы нынешнего бесконечного «царствования», исходит из того, что только федеральный центр должен решать, что и как передавать на региональный и местный уровни. Именно об этом свидетельствуют итоги масштабных преобразований, осуществленных в российском законодательстве в 2003‒2004 годах.
В процессе так называемой реформы Козака вниз передавались все вопросы, которые можно решать без вмешательства верховной власти. И в этом отношении отечественный федерализм выглядит вполне по-европейски. Но следует обратить внимание на то, что сближает Россию и Европу: в обоих рассматриваемых случаях не низам, а верхам предстоит установить, как лучше делить полномочия. «Принцип субсидиарности не сочетается с федерализмом, ― процитировал докладчик американского политолога Даниэла Элазара. ― Это католическая концепция, рожденная в иерархически организованном обществе и призванная смягчить его недостатки путем гарантирования ряда полномочий низшим уровням. Но федерализм не имеет с иерархией ничего общего: здесь есть только большие и малые элементы, но нет высших и низших».
Фактически принцип субсидиарности констатирует иерархичность и моноцентризм традиционной для Европы социальной матрицы. Фундаментальный вклад в закрепление этой системы внесло централизованное государство, восторжествовавшее на международной арене после подписания Вестфальского мира. Оно сумело оттеснить прочие институциональные альтернативы (в частности, город-государство и государство-лигу), поскольку умело более эффективно сосредотачивать ресурсы. За этой эффективностью, в свою очередь, стояла присущая пирамидальным системам концентрация власти. Откликаясь на данную очевидность, наблюдатели неоднократно констатировали: европейское сообщество вышло из цивилизации, которая издавна добивалась единства на иерархической основе, что впоследствии не могло не отразиться на специфике европейского федерализма в частности и европейской демократии в целом. «В Европе демократия стала итогом предшествующего становления и мобилизации национального государства, и потому она вынужденно развивалась в тех рамках, которые устанавливались людьми, контролирующими государство и определяющими понятие национальной идентичности», ― процитировал спикер специалиста по европейскому федерализму Серджио Фабрини.
Соответственно, главным конфликтом внутри европейской демократии было отнюдь не столкновение насквозь иерархичного католического мировидения с отвергающим иерархию протестантским взглядом на социум. Эту роль выполняло противостояние двух инспирируемых католицизмом течений социальной мысли: тоталитарной демократии якобинцев и либеральной демократии Монтескье. Каждое из течений оставило свой отпечаток в европейской федералистской традиции. Этот след мастерски изобличает Элазар, согласно которому «европейская политическая культура и, следовательно, политическое мышление до сих пор пропитаны этатизмом», а следовательно, в современной Европе речь идет о «федерализации иерархической, по сути, системы».
И вот в данном отношении, как бы странно это ни звучало, наша страна всегда следовала «европейским стандартам». В проектах федерализации России, начиная с самых ранних, неизменно преобладало государство. Только ему, а не самоуправляющимся низовым общинам или составным частям (регионам), отводилась роль учредителя и гаранта нового порядка. Федерализм в России во всех его формах, как реализованных, так и оставшихся на бумаге, не вызревал снизу, естественным путем, как в Соединенных Штатах Америки. Он навязывался сверху, выступая итогом верхушечного, элитного сговора. Именно поэтому единственный в истории России долгосрочный федералистский эксперимент, начавшийся после краха коммунизма, удалось свернуть и предать забвению с такой непостижимой легкостью. Долгое время в Российской Федерации не знали, что означает таинственное слово «субсидиарность».
Однако при этом российская государственная власть неизменно, в полном согласии с упомянутым католическим принципом (не догадываясь, впрочем, об этом), избавлялась от наиболее неприятных социальных функций, передавая их вниз, на общинный уровень, и одновременно сохраняя за собой неусыпный контроль над механизмами такой передачи.
Интересно, что общее видение федерализма, сближая Россию и Европу, противопоставляет и ту и другую Соединенным Штатам. Американские теоретики, изучающие федералистскую политическую культуру, постоянно подчеркивают ее нецентрализованный характер. Для англосаксонской традиции федерализм есть целенаправленное дробление и рассеяние власти: ее намеренно «растаскивают» по различным институтам, чтобы предотвратить концентрацию в одних руках. На это следует обратить особое внимание.
Речь идет не о децентрализации, предполагающей добровольный отказ центра от части своих полномочий в пользу нижестоящих уровней власти, а именно об отсутствии централизации как таковой, об одновременном наличии в обществе нескольких властных центров. Причем все они равны между собой, и разница между ними состоит лишь в том, какое количество граждан объемлет та или иная властная орбита. Подобный полицентризм выдвигает на первый план диалоговое, договорное начало, делая принуждение, к которому прибегают лишь в самом крайнем случае, периферийным способом разрешения политических проблем федеративного государства.
Указанный подход заметно повышает политический статус гражданских институтов и организаций, так как описанная система обеспечивает гражданам федерации максимальную защиту. Играя на нескольких досках сразу, будучи гражданином и страны и штата и жителем конкретного города или местечка, рядовой американец создает себе максимум возможностей для обеспечения собственных прав и свобод. Или, как писал Александр Гамильтон в «Федералисте», «народ, бросая себя на ту или другую чашу весов, безошибочно обеспечит ей перевес. Если права народа нарушаются на одной из них, он может использовать другую в качестве противовеса».
Как утверждают специалисты, за 200 лет, прошедших с момента основания США, в указанном отношении ничего не изменилось. «Люди, неспособные добиться удовлетворения своих нужд непосредственно от властей своих штатов, рады поддержке со стороны любого внешнего источника, ― пишет Элазар. ― Иногда они обращаются к местным властям, но чаще их надежды связываются с федеральной столицей». Кто-то может сказать, что и в России происходит нечто подобное, когда правдолюбцы, не находящие понимания у себя дома, идут все выше и выше, до самой верховной власти. Но такое уподобление ошибочно. Ведь то, что у нас выглядит как хождение по этажам монолитной властной пирамиды, в Соединенных Штатах предстает апелляцией к независимым друг от друга источникам власти.
Субсидиарность не столь простой концепт, как представляется на первый взгляд. Его использование требует немалой осмотрительности, ибо, выдавая себя за одну из фундаментальных основ территориальной демократии, он порой способен санкционировать не либеральные, а, напротив, иерархические подходы к общественной жизни.
Председатель Общероссийского общественного движения «Выбор России», политик, член Координационного совета Экспертной группы «Европейский диалог»
• Что такое федерализм для Европы ― цель или средство? Почему европейская и российская модели федерализма противопоставляют себя его американской разновидности?
• Как централизация и децентрализация проявляют себя в международной торговле? Что выбирают европейцы: Европейский союз или Евразийский экономический союз?
• Полезны ли современные европейские уроки децентрализации для Российской Федерации? Могут ли они помочь усовершенствовать ЕАЭС?
• Можно ли считать нецентрализацию альтернативой децентрализации?
• Насколько полезным для реформирования государственной модели России может оказаться опыт первой европейской федерации в лице Швейцарии?
При этом важно понимать, что иерархическая структура необязательно является антилиберальной. Французская демократия такая же либеральная, как немецкая, но при этом она, несомненно, является иерархической политической конструкцией унитарного государства. Главное же в том, что любая либеральная демократия, даже самая иерархичная, не должна угрожать правам и свободам человека, основам либеральной экономики, верховенству права, правам меньшинств и другим основам успешного «государства для человека».
Кроме того, всегда надо стремиться постепенно осваивать новую политическую культуру, внедрять не иерархичную, по сути, идею субсидиарности, а принципы подлинного федерализма, где каждая структурная единица пользуется неприкосновенной автономией. И в этом деле пригодится прежде всего опыт европейских федераций и США.
Владимир Рыжков дополнил эту идею небольшой иллюстрацией. В Алтайских горах, рассказал он, есть маленькое село Топольное. Прокуратура предписала главе местной администрации построить пожарный пирс ― в маленькой деревне, далеко в горах. Пирс ― это специальная насыпь (пандус), по которой пожарная машина заезжает в реку, чтобы набрать воды. Строить пришлось под угрозой огромного штрафа. В итоге муниципалитет взял кредит в банке, потому что денег в бюджете не было, и сделал то, что требовалось, хотя при этом в районе нет ни одной пожарной машины, которая могла бы набирать воду с этого пирса.
Подобные требования прокуратуры с угрозами штрафов поступали постоянно, по самым разным поводам, и в результате глава, замечательный человек, подал в отставку. А насыпанный им пожарный пирс на следующий год был смыт паводком, который в этой деревне случается ежегодно. Так, по мнению Рыжкова, работает регулирование из центра. Принимаемые Государственной Думой благие и универсалистские законы на местах зачастую оборачиваются кафкианским абсурдом.
Адъюнкт-профессор Университета Софии, председатель правления Института рыночной экономики (IME)
Анализ предварялся двумя тезисами: во-первых, в Европейском союзе федерализм представляет собой многозначное явление ― иногда он означает усиление, а иногда ослабление централизации, причем обе тенденции постоянно конкурируют между собой; во-вторых, централизация и децентрализация в современных политических и экономических системах, включая Европу и Россию, ЕС и ЕАЭС, зависят от диалектической борьбы экономических трендов ― протекционизма, с одной стороны, и борьбы с ним, с другой стороны.
Если проблемы ЕС можно сравнить с проблемами человека, который, образно выражаясь, с жиру бесится, то российская ситуация совсем иная. Если взять ВВП ЕАЭС, то доля России в нем составляет около 80%, а доля Белоруссии лишь 3%. Суммарное население всех членов ЕАЭС за вычетом России не превышает 20%. Рано или поздно это приведет к проблемам. Усугубляется ситуация тем, что два члена Евразийского экономического союза, Казахстан и Россия, представляют собой ресурсные экономики, все остальные стоят в очереди за доходами из Казахстана и России. Это усиливает миграцию. Соответственно, РФ выступает принимающей страной, все остальные миграционные процессы являются следствием этой гравитации.
Но главные отличия двух объединений касаются внутренних правил их устройства. В Европейском союзе таких правил три.
Первое ― запрет на государственную помощь (он, конечно, действует не всегда, иногда его отменяют на какой-то период, но потом обязательно вводят снова).
Второе ― запрет на экспроприацию собственности, особенно на экспроприацию у соседей по объединению. Если, скажем, болгарский прокурор захочет отобрать бизнес у французов, то посол Франции тут же выступит по телевидению, и Болгарию поставят на место. В ЕС можно грабить только своих, пошутил выступающий.
Третье ― нельзя закрывать страну, юрисдикции должны быть открытыми. На этом, собственно, кончаются экономические функции Европейского союза, и число их не увеличится.
Что касается пресловутого всевластия Брюсселя, то это по большей части чистая иллюзия. Все решения Европейской комиссии вытекают из решений, принимаемых представителями отдельных государств в структурах исполнительной власти (в Совете министров ЕС). И что делают обычно национальные премьер-министры? Они едут в Брюссель, там голосуют «как надо», а потом, вернувшись домой, ругают ЕС. Брюссель что-то вроде боксерской груши, своеобразный козел отпущения, который удобен для всех, чтобы раз за разом снимать с себя ответственность.
С точки зрения Станчева, эпицентром экономических дискуссий в Европе конца 2017 года стали дебаты, касающиеся двух соглашений о свободной торговле. Причем если в первом случае свободная торговля между ЕС и Соединенными Штатами Америки приостанавливалась, то в втором случае, напротив, свободная торговля между ЕС и Канадой открывалась и санкционировалась. Конечно, Европейский союз был бы заинтересован в подписании обоих соглашений, поскольку Северная Америка, как геополитическая часть Земли, защищена гораздо лучше Европы. К тому же важно понимать, что Канада ― это хорошо, но очень мало: на общую торговлю ЕС с Канадой приходится лишь полпроцента европейского ВВП.
Иначе говоря, факт ратификации соглашения с Канадой и блокирования аналогичного соглашения с США вызывает закономерные вопросы. В частности, обращает на себя внимание, что страны ― члены ЕС в сложившейся ситуации действовали крайне разобщенно. Например, Болгария, являясь членом ЕС, объединения, которое совокупно выступает за свободную торговлю с Канадой, отличилась тем, что ее президент попросил болгарский Конституционный суд вывести страну из канадского соглашения. Обосновывая эту инициативу, ее сторонники ссылались на статистику. Для Болгарии, говорили они, свободная торговля с Канадой малоинтересна, поскольку болгарский импорт из Канады составляет всего 30 млн долларов ежегодно, из которых 20 млн приходятся на чечевицу. Сама же Болгария экспортирует в Канаду ненамного больше ― она вывозит программное обеспечение и продукцию машиностроения на незначительную сумму в 150 млн долларов в год.
Чем объясняется подобного рода «самодеятельность» в рядах членов Европейского союза? Отвечая на этот вопрос, Станчев вернулся к противостоянию в мире двух конкурирующих тенденций: централизации и децентрализации. По его мнению, соглашения о свободной торговле, подписываемые ЕС, в определенном смысле можно считать последним убежищем для протекционизма. Даже если кто-то их не ратифицирует, свободная торговля все равно пробивает себе дорогу. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, как сегодня действует такой продукт «децентрализации» в международной торговле, как, скажем, китайская Alibaba Group, не признающая административных границ.
Именно свободная торговля питает импульсы децентрализации, включая кризисные явления внутри самого ЕС. Как раз ими и объясняются Брекзит, тяга Каталонии к «независимости», референдумы в Шотландии. Вместе с тем Станчев не считает, что уход Великобритании способен спровоцировать роспуск Европейского союза. Скорее всего, Соединенное Королевство сохранит собственный партнерский статус с ЕС, поскольку 60% документов, которые регулируют торговлю между государствами ― членами Союза и Британией, являются соглашениями, которые заключены в рамках ВТО. Скорее всего, британцы будут упрощать свою торговлю с остальным миром, не вовлеченным в ЕС, а это заставит Союз поддерживать свободную торговлю с ними на прежнем уровне, невзирая на Брекзит. Это в конечном счете приведет к большей либерализации торговли в рамках и самого Европейского союза.
Что касается Евразийского экономического союза и места в нем России, то данная торговая модель заметно отличается от той, что действует в Европе. Соглашения о свободной торговле в ЕС соблюдаются благодаря простому принципу: торговля с более богатыми делает вас богаче. Однако ЕАЭС действует как раз наоборот: Российская Федерация предпочитает торговать с беднейшими странами, и от этого сама становится беднее. Многочисленные российские исследования, а также отчеты Центра Карнеги свидетельствуют о том, что выигрывает от функционирования ЕАЭС лишь одна страна ― Китай. Тут показателен пример с обувными поставками в Киргизию, которые прежде для этой страны с 5 млн населения составляли 200 млн долларов в год, а после вступления Киргизии в Евразийский союз быстро выросли до 2 млрд долларов. Естественно, сами киргизы не в состоянии сносить все эти туфли, сапоги, лабутены. Все это идет на рынок России и других стран ― членов ЕАЭС. Кто же побеждает? Разумеется, Китай и китайский экспорт.
Между тем экономика развивается по своим собственным законам, неподвластным директивам о централизации и приказам об объединении. Государства ― члены Евразийского экономического союза больше торгуют с Европейским союзом и остальным миром, чем между собой. Ведь торговля между членами ЕАЭС зависит от обменного курса рубля, цен на нефть, газ, настроений азиатских диктаторов, а это весьма неустойчивые переменные.
Интересно, что в Европе есть страны, которые заявляют о своей приверженности свободной торговле с Россией и, соответственно, с Евразийским экономическим союзом. Это прежде всего Сербия. Но подобные декларации далеки от реальной жизни, потому что соответствующих торговых отношений почти нет, они мизерны. Одновременно торговля Сербии с более богатыми центрами тяжести, а именно с ЕС, за последние 15 лет выросла в семь раз. К тому же общеизвестно, что 80% ВВП Западных Балкан как отдельного региона экономически интегрированы с Европейским, а не с Евразийским союзом.
Ни один из проектов, предполагающих централизацию торговли, будь то по инициативе России или по планам ЕС, не увенчается успехом. В современном мире это просто невозможно, ибо все равно придет какая-то условная Alibaba Group и уничтожит всю централизованную схему. Децентрализация ― общее знамение времени, а это означает, что когда-нибудь она придет и в Россию.
Кандидат политических наук, руководитель Группы стратегических оценок ИМЭМО РАН
Изучает европейскую политику, деятельность международных организаций, интеграционные процессы, формирование внешней политики, развитие политики в области безопасности и обороны.
Подобное автоматическое непонимание основных терминов наблюдается не только в России, проблемы с «понятийным аппаратом» часто обнаруживаются и в Европейском союзе. К примеру, в тот или иной правовой документ вносятся официальные формулировки, которые вроде бы устраивают всех участников; предположим, речь идет о желательности той же «субсидиарности», которая нравится всем. Все за: пусть полномочия между разными уровнями власти распределяются оптимальным образом. Но как только, переходя от теории к делу, начинают искать оптимальные точки пересечения интересов ― немедленно начинаются проблемы. Обусловлено это тем, что изначально под тем или иным словом различные участники соглашений понимали разные права и обязанности. В итоге, даже если компетенции и удается разграничить, все равно остаются серые зоны, где сложно найти решение, устраивающее всех.
С осторожностью надо воспринимать не только термин «субсидиарность», но и саму природу Европейского союза. Ведь ЕС сейчас чаще всего именуют либо федерацией, либо квазифедерацией, то есть едва ли не федеративным объединением. А это рождает аналогии с теми конструкциями, которые в прошлом выстраивали различные государства на национальном уровне, и аналогии эти способны ввести в заблуждение. Дело не только в этом. Сама попытка вписать Европейский союз в федеративную или конфедеративную рамку неправильна, поскольку речь идет об объединении специфическом и ранее невиданном. Когда же об этом забывают, руководствуясь принципом «все похоже на все», многие важные вещи упускаются из виду. Скажем, люди в каждой стране Европейского союза в первую очередь считают себя гражданами своей страны, а о том, что они еще и граждане ЕС как такового, европейцы вспоминают только после наводящих вопросов. Далее, несмотря на провозглашенную общность в Союзе внешней политики и политики безопасности, каждая страна ЕС, даже самая маленькая, стремится проводить самостоятельную внешнюю политику. Если бы Европейский союз был подлинной федерацией, такое было бы невозможно.
Иначе говоря, не надо упрощать. Разграничение между ЕС как интеграционным объединением и любыми государствами с сильными регионами, включая федерации, достаточно четко прочерчено на законодательном уровне. Уткин обратил внимание на некоторые следствия такого разграничения. Так, нередко утверждается, что и Москва и Брюссель выступают похожими друг на друга источниками чрезмерной централизации. Но сравнивать российскую и общеевропейскую столицы по степени централизации большая глупость. Действительно, Брюссель и ЕС часто оказываются мишенью, в первую очередь для популистских партий, которые понимают, что столица Европы где-то далеко и на нее можно свалить все неприятное, что происходит в жизни избирателей. И обязательно найдутся люди, которые кивнут и скажут: да, европейские бюрократы нам мешают. Так выглядит одна из политических технологий, которая привела к уходу Великобритании из ЕС.
Кстати, эксперты, которые подсчитывают, кому и сколько достается, на цифрах показывали, что для Великобритании все-таки важно оставаться частью Европейского союза. Однако с минимальным перевесом возобладала иная позиция. Брюссель не нужен, он ― далеко. И хотя сам город Лондон голосовал за то, чтобы остаться в составе единой Европы, британские регионы, для которых и Лондон находится где-то далеко, проголосовали за то, чтобы выйти из ЕС. Они желали получить какие-то преимущества.
Тема чрезмерной централизации Европейского союза с легкостью становится орудием в руках популистов. Но как только начинается серьезный разговор о том, за что же реально отвечает Брюссель и насколько ощутимо он портит жизнь людям, живущим в отдельных странах ЕС, немедленно проявляется вывод: никаких доказательств того, что европейская бюрократия причиняет кому-то вред, не имеется. Расходы на нее не являются запредельными. Критикуя Брюссель, полезно взглянуть на управленческие конструкции в самих национальных государствах ― там легко можно обнаружить пути оптимизации. В любой бюрократической структуре спрятан потенциал экономии. Но сказать о европейских чиновниках, будто они бездельники, проедающие деньги налогоплательщиков, категорически нельзя.
Более того, вполне актуален другой вопрос: не стоит ли передать Брюсселю еще больше полномочий? Эта тема проистекает из незавершенности тех проектов, которые уже были начаты и не доведены до конца. Например, было достигнуто общеевропейское понимание того, что ЕС важно говорить на международной арене единым голосом. Но достигнуто ли это? Нет, считает спикер. Далее, европейцы пришли к признанию того, что общий рынок в конечном счете работает на всех. Но в некоторых областях он еще не до конца сформирован, и именно это создает существенные различия в уровне экономического развития европейских регионов и оплате труда в разных государствах-членах. Гомогенность общего пространства в экономическом плане пока не обеспечена ― в данном отношении власть Брюсселя также стоило бы укрепить. Самое же главное для нашего видения и наших оценок Европы заключается в том, что особую природу ЕС нужно оценивать исключительно объективно.
Для России европейские уроки ценны в первую очередь в свете участия нашей страны в тех или иных интеграционных процессах. Это не столько урок для распределения полномочий внутри России, сколько поучение касательно того, как дальше развивать Евразийский экономический союз. Нужно ли укреплять вектор централизации в деятельности этого объединения или более полезной окажется децентрализация? Если будет взят курс на децентрализацию, что будет происходить с политическими системами отдельных стран ― участниц евразийского объединения? Наконец, как в таком случае будут выстраиваться отношения между участниками обновленного блока?
Говоря о потенциале либеральных ответов для нынешних вызовов в целом, спикер отметил, что либеральная среда ― это городская среда. И жизнеспособный бизнес, и развитая инфраструктура появляются прежде всего в городских сообществах, где люди постоянно и тесно общаются друг с другом. То есть идея некоего идеального общества свободных фермеров находится в области утопии. В реальном мире среда, в которой рождаются и поддерживаются либеральные ценности, всегда является городской средой. Когда будет избран путь, ведущий к пониманию этой среды и преодолению этнических эгоизмов, начнется усиление именно городского, муниципального уровня управления ― потому что там в конечном счете и протекает жизнь подавляющей части современных людей.
В пределах одного и того же региона есть полисы более успешные и менее успешные. Власть на национальном уровне должна понимать, что нужно делать для того, чтобы в городах появлялись новые возможности для свободного развития бизнеса и комфортной жизни людей. Это позволит переместить разговор о распределении полномочий между разными уровнями власти из плоскости средневековой националистической мифологии (вот мы, баварцы, особенные, а мы, каталонцы, еще более особенные) в плоскость совершенствования практик управления. Что нужно, чтобы жизнь в городе была выстроена оптимально и удобно? Либеральный ответ на этот вопрос и сформирует ближайшую повестку дня: и для региона, и для страны, и для любого содружества государств, причем в любой части планеты.
Децентрализация является одной из важнейших политических и либеральных целей человечества. Это особенно верно в условиях прогрессирующей централизации, в последнее время затронувшей даже такие страны, как Швейцария. Откуда вырастает этот тренд? В первую очередь за ним стоит централизация права, поскольку именно суды в любом государстве представляют собой максимально централизованную систему. Докладчик также объявил, что не является сторонником термина «децентрализация», предпочитая понятие «нецентрализация». Почему? Потому что в децентрализованных системах именно центр, шаг за шагом, сугубо по своему собственному желанию, возвращает часть своей власти каким-то низовым структурам. Низы не участвуют в этом процессе. Как раз поэтому единственная реальная децентрализация ― это нецентрализация, понимаемая как процесс и идущая последовательно и постоянно.
Докладчик неоднократно подчеркивал, что он не против централизации как таковой. Законы или договоренности, принимаемые на центральном или даже глобальном уровне, напоминают правила дорожного движения.
Все должны быть согласны с тем, что на зеленый свет нужно ехать, а на красный стоять, и в этом плане универсальное регулирование необходимо. То же самое можно сказать и о метрической системе, календаре, многих других полезных вещах. Поэтому никто не против соглашений, централизованно устанавливающих какие-то правила, например принципы обороны страны, правила сбора налогов и т.д.
Что означает субсидиарность сегодня? Если у небольших общин забрать все деньги (а это основа самоуправления), то у них исчезнет возможность действовать и отвечать за собственные действия. Для России такая ситуация характерна. Более того, принцип субсидиарности ― это не только правила взаимодействия между высшими и низшими юрисдикциями в конкретном государстве; субсидиарность начинается с возвращения к человеку, семье, самому маленькому сообществу ― коммуне. В соответствии с принципом субсидиарности общие проблемы должны решаться на самом низовом уровне из всех возможных. Политические полномочия нельзя делегировать сверху вниз по иерархической лестнице, как происходит в процедуре децентрализации, более целесообразно руководствоваться нормами нецентрализации.
Роберт Неф подчеркнул, что никакое налогообложение не будет эффективным без четко определенного участия местных властей. Никто не должен облагаться налогом, не имея возможности определить его ставку и цель. Иначе говоря, нет налогообложения без представительства, а представительство неэффективно без права вводить налоги. Соответственно, тот, кто не платит налогов, не должен иметь и политических прав.
Одна из худших особенностей централизации заключается в том, что ее сила обусловлена не только мощью самого центра, который всегда хочет все больше власти.
За централизацию часто выступают и небольшие общины, которые не любят собирать налоги самостоятельно. Но это неправильная линия, она не обеспечивает процветание низовой демократии. По идее, налогообложение целесообразно превратить во что-то вроде клубного абонемента, ведь люди готовы платить налоги, когда видят реальную пользу от их уплаты. Об этом говорит, в частности, опыт Швейцарии. Скептики в этой стране считали, что если вернуть власть платить налоги самим людям, то они просто не будут платить. Но это неправда: люди готовы раскошелиться, когда видят, что их налоги инвестируются в то, что полезно для них самих.
Это отвечает основам либерального мировоззрения, ведь даже строгий либерализм ― это смешанная идея. Руководствуясь им, все выступают за свободу, но свободы не бывает без ответственности. Гармония состоит в неразрывности прав и обязанностей.
В глобальном мире признание ценности экономического и политического разнообразия, мультикультурализма, деконцентрации власти следует считать большим достижением. Нецентрализация не старомодная вещь; напротив, это идея будущего.
Далее спикер напомнил собравшимся о теории генезиса федераций, которую выдвинул Альфред Штепан. Главная ее мысль в том, что в мире есть федерации двух основных типов: coming together (это, в частности, американские штаты, которые собираются вместе и объявляют, что теперь они будут жить сообща) или keeping together (это любое унитарное государство, которое, чтобы его регионы не разбежались, дает им большие права, одновременно объявляя себя федерацией). Для России Штепан не мог найти определения и поэтому придумал для нее третью рубрику: это федерализм put in together, характеризующийся жесткой хваткой со стороны центра, а отнюдь не особенностями передачи полномочий либо сверху вниз, либо снизу вверх. Именно это принципиально отличает Российскую Федерацию от всех остальных федераций.
Далее докладчик остановился на политэкономии российского федерализма. Либеральные рецепты в отношении федерализации и отказа от унитаризма у нас не очень работают. Россия по-прежнему остается чрезвычайно централизованной и избыточно унитарной страной. Почему эти рецепты не работают? Потому что Россия живет за счет природной ренты, а природная рента по определению распределяется сверху вниз. Если деньги идут сверху вниз, то и полномочия раздаются точно так же. Центр у нас отдает вниз то, чем ему не хочется заниматься. То есть в России возникла своеобразная «обратная субсидиарность», которая заключается в том, что на самый низ попадают те полномочия, которые абсолютно никому не нужны. Их часто отдают без денег.
В этом смысле дирижизм, то есть исключительно государственное внедрение даже самых незначительных элементов федерализма, в Российской Федерации остается неизбежным явлением. Если бы Россия стала нормальной страной до возникновения топливной ренты, то можно было бы культивировать то, что удалось наработать раньше. Но в условиях централизма и рентной перераспределительной экономики никакая реформа налоговой системы не сможет породить фискальный федерализм, потому что деньги в бюджет будут давать лишь три региона: Москва, где все «прописаны», а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа (газ и нефть). Все остальные республики, края, области являются «попрошайками».
До недавнего времени можно было рассматривать баланс полномочий между федеральным центром и регионами как качание маятника. В 1990-е годы этот маятник очень сильно качнулся в сторону регионов, а с приходом Владимира Путина, совпавшим с укреплением финансовой мощи центра, ситуация начала меняться: маятник двинулся в обратном направлении. К 2003 году он миновал сбалансированное положение и с тех пор пошел резко в сторону Москвы. Путин принял Россию как федерацию регионов, но превратил ее в федерацию корпораций: как раз они, а не регионы в его правление стали играть роль квазиавтономных единиц, «держав» внутри государства. Причем такой корпорацией может быть, с одной стороны, ФСБ, а с другой ― «Газпром». Налицо разный тип корпораций, но и те и другие, будучи квазигосударственными образованиями, живут по своим внутренним законам, имеют внутренние системы обеспечения, руководствуются собственными правилами безопасности и т.д. Когда цены на нефть упали, можно было ожидать, что маятник пойдет обратно из центра в сторону регионов, но вместо этого граждане увидели совершенно другую вещь: Кремль приступил к реализации стратегии «Централизация 2.0», покончив с федерацией корпораций. Но регионы при этом попали под еще более мощное и регламентированное давление.
В этом смысле интересно посмотреть, как были выхолощены замыслы политической реформы после массовых протестов 2012 года: хотя она и давала определенные политические права регионам, восстановив смешанную избирательную систему и прямые выборы губернаторов, на деле регионы не получили ничего. Система маятника оказалась вообще сломанной, и теперь Российская Федерация живет совершенно в других реалиях. Что это за реалии?
Прежде всего, Россия переживает полнейшую деградацию основных государственных институтов. Так, у нас отсутствуют институты представительства региональных интересов в федеральном центре, и отсюда проистекает множество проблем. Достаточно вспомнить протесты 2009‒2010 годов в Приморском крае и в Калининградской области, вспыхнувшие в ответ на рациональные, но диктаторские действия федерального центра, которые не принимали во внимание региональную специфику.
Далее, происходит деградация региональных элит, о чем свидетельствует последняя волна чиновничьих замен. Предполагается, что регион такая же корпорация, как любое подразделение правительства; следовательно, считают руководители страны, эффективный менеджер из «Газпрома» или аппарата какого-нибудь министерства способен успешно возглавить любой регион. Но это самый настоящий абсурд. Подобные процессы помещают российское государство в критическую ситуацию. Раньше считалось, что в случае ослабления центра, происходящего по тем или иным причинам, обязательно усилятся регионы, но сегодня региональных элит, способных, как в 1990-е годы, подхватить ту власть, которую будет терять федеральный центр, просто нет.
Усилиями Москвы регионы деградировали едва ли не полностью. Местное самоуправление давно ликвидировано, а условный федерализм, который в каком-то отдаленном будущем мог бы прийти, провалился: ему уже не на что будет опереться. Докладчик делает неутешительный вывод: Российская Федерация в нынешнем виде нежизнеспособна. Те принципы, на которых она зиждется сегодня, несовместимы с жизнью. Россия похожа на пьяницу, который стоит у стены и, держась за нее, считает, что он устойчив. Никакое движение для него невозможно. Если унитарная и централизованная страна в своих границах окажется несостоятельной, то ей придется разделиться на маленькие части, которые сделаются унитарными. Если же Россия хочет сохранить те границы, в которых она находится сейчас, то децентрализации и федерализации нет альтернативы.
Николай Петров также вспомнил начало 1990-х и работу над российской Конституцией. Что сегодня изменилось к лучшему? Когда вертикаль власти демонтировала российский политический федерализм, то вместе с ним был демонтирован и этнический федерализм. На бумаге еще есть разница в статусе этнических территорий и всех прочих, но на деле этой разницы уже нет. Это открывает уникальную возможность для учреждения нашей федерации заново, без закладывания в ее основу принципа этнического федерализма.
Реальный федерализм никогда и нигде не может быть «равномерным». В судебной системе, например, Россия де-юре всегда была исключительно унитарным государством. Властные вертикали РФ, которые были отстроены в последние годы, отличаются друг от друга ― это не единая вертикаль. Но проблема в том, что они все опираются на одни и те же границы регионов. Тотальность административных границ в РФ ― серьезная проблема. Если в управленческой модели границы разные, у каждой властной вертикали свои, то это делает государственную ткань более плотной, уменьшая риск сецессии. Одновременно это позволяет гражданину жить в очень разных территориальных ячейках.
Отсюда возникает созидательная конкуренция, которая во времена Путина была неправильно истолкована ― в ней увидели недоработку российской Конституции. Мы должны способствовать тому (в этом либерализм и заключается), чтобы то, что растет снизу, росло не из-за того, что Кремль разрешил или Москва приказала, а по собственному желанию, само по себе. Это будет и либерально и по-федералистски.
Несмотря на то что сейчас каталонцы, по сравнению с другими регионами страны, платят более высокие налоги, Каталонии в реальности невыгодно выходить из состава Испании. Первоисточник их недовольства в том, что они «кормят» бедные провинции; тем не менее в случае выхода Каталония едва ли попадет в Европейский союз сразу, а потому, объективно говоря, ее выход из Испании не принесет ей никаких выгод.
Эти калькуляции, однако, разбиваются о гуманитарные первоосновы тяготения к независимости. Когда часть общества начинает впитывать дух свободы на уровне семьи и отдельной личности, она высказывается против наличия какого-то более высокого института, который отнимает у индивидов часть их личной свободы. В этом смысле, проецируя чей-то опыт на Россию, необходимо понять, имеется ли базис для проявлений такого рода в Российской Федерации.
В фундамент российского федерализма закладывался исключительно принцип эффективности, управленческой и экономической, и именно поэтому федерализм у нас не прижился. Этого оказалось мало. Сегодня России тоже надо переориентироваться на восприятие федерализма как культурного кода, как ценности, важного элемента самосознания ее граждан. Несмотря на тяжелую и унитаристскую историю, условия для этого в нашей стране есть. Как ни удивительно это звучит, Россия уже сейчас является в ряде отношений конфедерацией.
Формально продолжается централизация, а местное самоуправление почти ликвидировано, но от всего этого централизованная управляемость страной отнюдь не упрочилась. Например, перепады в финансировании медицины по регионам исключительно велики. Одно и то же заболевание в разных регионах будет лечиться при разной бюджетной обеспеченности, а потому и результаты лечения будут разниться кардинальным образом. В этом смысле централизация оказалась тщетной: жизнь в каждом из регионов России протекает совершенно особым образом. Наиболее яркими примерами здесь выступают Чечня, Якутия, Татарстан, которые живут собственной государственной жизнью, практически не испытывающей влияния Москвы.
Конфедерация в России складывается стихийно: управленческие сигналы, которые идут из Москвы вниз, в регионы, преломляются там в кривом зеркале местных интересов. Во многих субъектах Федерации московские директивы изменяются до неузнаваемости. Для преодоления этой нездоровой ситуации действовать надо по американской схеме, предполагающей формирование независимых друг от друга центров власти. Первую скрипку тут может сыграть судебная система, которая, будучи по-настоящему независимой, порождает настоящую децентрализацию. В США судья какого-нибудь штата может отменить указ президента или приостановить действие федерального закона. У России есть шансы превратиться в действенную конфедерацию ― и это, в принципе, не так уж плохо.
В настоящее время 65% доходов консолидированного бюджета страны идут в федеральный бюджет, 25% в региональные бюджеты и только 10% поступают в органы местного самоуправления. Местные органы власти остаются финансово обескровленными. А состоявшийся в последние годы отказ от прямых выборов мэров и прямых выборов депутатов в городах с районным делением стал отказом от местного самоуправления как такового.
Никакие параллели между современной Россией и федеративными государствами Запада невозможны, ибо все они упираются в ключевой вопрос: как делятся деньги? Российская система распределения бюджетных потоков ― туманная, непрозрачная, коррупционная. По сути, в Российской Федерации торжествует антифедерализм. Но проблема не только в расходовании бюджетных средств ― например, в банковской системе России также взяли верх национализация и централизация.
В настоящее время уже 25 регионов не имеют ни одного своего регионального банка. На деле госбанки вообще отказались предоставлять право кредитования на места: минимальный уровень руководства, который способен принять решение о кредите, ― уровень федерального округа. Даже не области ― округа. А большинство решений вообще принимаются в центральных офисах банков, в Москве. Система принятия решений настолько централизована, что ни о каком федерализме мы говорить уже не можем: Россия, по мнению Андрея Нечаева, превратилась в унитарное государство.
Почему в свое время значительная часть населения поддержала на первом этапе распад СССР, аплодируя своим региональным элитам? У людей было тогда ощущение, что в условиях тяжелого кризиса в одиночку выживать легче. Если все российские регионы или хотя бы часть из них тоже заразятся этой идеей, то угроза распада РФ станет реальной.
Классический либерализм в первую очередь говорит о правах, о материальном праве собственности и смежных правах, личных неимущественных правах и т.д. Иными словами, он формулирует правила, по которым живут люди. Что же касается централизации и децентрализации, то они отвечают на другой вопрос: кем должны быть те субъекты, которые принимают указанные правила и отвечают за их неукоснительное применение? То есть либерализм ― это материальное право, а централизация и децентрализация ― процессуальное право, которое касается функционирования власти. Либерализм всегда говорит про закон, а централизация и децентрализация рассуждают о власти.
Неправильно говорить о том, что низшим уровнем децентрализации является частный гражданин. Потому что этот гражданин не имеет права даже в максимально либеральном обществе устанавливать свои законы, например на территории своей частной собственности. Он не может принять там свое собственное уголовное право или, скажем, установить закон «на моей территории я сам решаю, кому жить, а кому умереть». Логика вполне понятна, и поэтому можно наблюдать, как децентрализованная система оказывается то более либеральной, то менее либеральной, чем централизованная. Однако либерализм не сводится лишь к аргументам в пользу либерализма и к защите прав.
Выступавший напомнил о фон Хайеке, который в свое время выделил две ключевые проблемы централизованных систем: проблему стимулов и проблему знания. Нельзя исходить из априорной посылки, согласно которой центр, пусть даже либеральный, лучше знает, как правильно организовать либеральную жизнь и какими должны быть правильные либеральные законы.
Децентрализованная же система, напротив, предоставляет возможности для экспериментирования, проб и ошибок. Кузнецов привел пример из жизни Европейского союза. В Финляндии в начале 1990-х годов проводилась реформа рынка коммуникаций ― механизмов ценового регулирования телефонных и телеграфных услуг. Исторически здесь сложилась очень децентрализованная конкурентная среда, которая сохранялась даже в период тарифного регулирования. Когда финны начали свою либерализацию, они в течение небольшого срока дошли до полного дерегулирования цен на услуги. Но в 2000-х развернулась кампания за вступление в ЕС, куда страна вскоре и вступила.
Отраслевые регуляторы в сфере связи исходят из ошибочной концепции естественной монополии, которая применительно к телекоммуникациям является не просто лженаучной ― бредовой. И ЕС, веря в естественную монополию, потребовал от Финляндии привести свое законодательство в соответствие с европейскими нормами. Финский законодатель был вынужден ввести понятие обоснованной цены в законодательство, что с точки зрения рыночной либеральной теории является бесспорной глупостью. Это пример того, как местное экспериментирование на путях либерализации может опережать общие тренды. В централизованной структуре даже либерального ЕС могут блокироваться реальные реформы.
Примерно то же самое произошло в Грузии с Трудовым кодексом. Она не вошла в Европейский союз, но во времена реформ там был принят крайне либеральный Трудовой кодекс, который полностью «либерализовал» рынок труда. Однако, когда Грузия попыталась гармонизировать свое законодательство с ЕС и начала соответствующие переговоры, одним из первых требований к ней было принятие жесткого, то есть социально ориентированного, Трудового кодекса европейского типа. Европейцы также потребовали восстановить антимонопольное регулирование, которое грузины ликвидировали. Иначе говоря, преимущество более децентрализованных систем состоит в том, что они, с либеральной точки зрения, дают возможность поиска более либеральных, более эффективных норм и способов организации жизни.
В чем же дело? Когда в 1978 году была принята Конституция Испании, предоставляющая право на автономный статут всем историческим областям, Каталония по уровню ее поддержки электоратом была на втором месте после Андалусии. С самого начала, однако, в конституционном тексте была заложена проблема, причем такая, какая есть и в России. Это проблема такой децентрализации государства, при которой одни регионы более равны, чем другие.
В Испании есть исторические области, которые всегда тяготели к автономизму: Каталония и Страна Басков. А были и другие регионы, автономии никогда не требовавшие. Тем не менее автономный статус был предоставлен всем и на одном уровне. В 2006 году каталонцы на референдуме массово поддержали новый автономный статус своего региона. В нем было объявлено, что каталонцы являются нацией, а также резко расширялись права территории в сфере образования и защиты каталонского языка. Но в 2010 году, еще при социалистическом правительстве Испании, все это было отменено как противоречащее Конституции. В 2011 году приходит к власти правое правительство Народной партии. Оно никак не занимается каталонской проблемой: вопрос считается закрытым. Призывы партии, которая возникла в результате трансформации франкистской «Фаланги», к защите свободы и демократии на фоне каталонского национализма выглядят странно. Ведь при Франко даже разговор в публичных местах на каталонском языке был уголовным преступлением. По мнению спикера, в Испании налицо конфликт регионального национализма и консервативного центрального правительства.
Здесь очень важно понять роль Европейского союза. Все знают, что ЕС однозначно открестился не только от солидарности, но и от контактов с Каталонией, сказав, что это внутреннее дело Испании, ибо основной принцип федерализма заключается в том, что народ на каждом уровне государственного управления делегирует легитимность соответствующим уровням управления. Но в таком случае все разговоры о европейской федерации каталонским примером явно обесцениваются: фокус власти остается на уровне национального государства и ЕС это прямо декларирует. А сама Испания предпочитает решать проблему силовым образом.
В связи с этим докладчица изложила свой второй тезис: испанская история, как и российская, обнаруживает серьезнейшие проблемы, которые возникают при попытках децентрализации избыточно централизованных государств. Испанскую систему не называют федерализмом, но, если посмотреть с точки зрения прав, то у испанских автономий прав больше, чем у российских регионов. В Испании есть центр и есть регионы, исторически обладающие бóльшим весом. Как в такой системе устанавливать федерализм ― сверху или снизу?
Интересные идеи на этот счет изложены в работах израильского социолога Шломо Эйзенштадта. Он сравнивает проницаемость регионов для центральной власти в США, которые избыточно децентрализованы, с Бразилией или с другими латиноамериканскими государствами в условиях авторитарных режимов. Эйзенштадт приходит к любопытному выводу: проницаемость региона в авторитарном централизованном государстве на порядок ниже, чем в децентрализованном федеративном государстве. В качестве примера он ссылается на десегрегацию американских школ в 1962–1964 годах.
Южные штаты были против, но, приняв соответствующие законы, федеральное правительство смогло настоять на своем, несмотря на все могущество составных частей американской федерации. А бразильские штаты во времена диктатуры, в которые были назначены губернаторы, оказались во власти «царей на местах», символизировавших абсолютную власть частного характера. Приватизация власти при авторитаризме ― это прежде всего неинституционализированные властные отношения.
Путин постоянно меняет губернаторов, снимает и назначает их, что обесценивает всякое упоминание федерации в названии страны: никакая это не федерация. Но, меняя губернаторов, он не обеспечивает реальной проницаемости регионов для центральной власти, потому что у него нет соответствующих институтов и он даже не озабочен их созданием.
По словам Ворожейкиной, она всегда считала, что для демократизации и политической реформы наиболее оптимальный стартовый уровень ― это уровень регионов, а не муниципалитетов. Примером тому стали муниципальные выборы в Москве, где к власти пришли новые люди, очень быстро обнаружившие, что у них нет никаких полномочий. Власть, собственно, на то и рассчитывает. Поэтому преобразования могут начаться только с регионов.
Должны ли у европейской асимметричности быть какие-то ограничители? На взгляд Долгина, союз, возникший между сторонниками выхода Великобритании из ЕС и последователями Трампа надо признать противоестественным, потому что в нем, с одной стороны, были сторонники всемогущества государства, а с другой ― сторонники свободы. Этот союз недолговечен. В целом же Евросоюз нуждается в дерегуляции; ему не следует указывать тому или иному государству, входящему в Евросоюз, какие отрасли и в какой степени развивать. ЕС должен ограничиваться регулированием общего уровня прав и свобод в том виде, в каком они утверждены в качестве базовых ценностей международного права.
Именно из этого и вытекает асимметрия. Те, кто готов взять на себя обязательства, могут принять их ― и, соответственно, выполнять. А вот те, кто не готов поступить так же, могут существовать и в отдельном статусе. Не надо, например, наказывать Великобританию за неразумное решение ― она всего лишь хотела для себя более комфортных условий в рамках Союза. А если кто-то хочет войти в ЕС, но последний пока не готов в полной мере включить это государство в свой состав, то следует предусмотреть промежуточные статусы; в частности, так можно было бы отнестись к Украине. Совершенно нормально, когда в интеграционном проекте есть разные уровни прав и обязанностей; скажем, есть статусы, на которые готов сам входящий субъект, но одновременно имеются и такие, на которые соглашаются те, кто уже успел войти в объединение.
Исходя из сказанного, и в России не надо бояться асимметричной федерации. Лучше было бы учредить федеративный союз заново, опираясь на конституционные принципы, а также права и свободы, которые уже есть в международных соглашениях. Кроме того, целесообразно внедрить систему стимулов, которые позволили бы субъекту самостоятельно принимать решения о том, готов ли он к большей самостоятельности, например финансовой. Если готов ― трансфертов из центра будет меньше, если не готов ― тогда привлечение любого инвестора будет согласовываться им с Москвой. Главное, чтобы эти порядки соответствовали общей рамке обязательств по защите прав человека.
Спикер также обратил внимание участников дискуссии на проект реформы правоохранительной системы РФ, разработанной Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Кроме ценности отраслевой, этот проект ценен в методологическом отношении, поскольку в нем предусмотрена определенная модель децентрализации. Предлагается создать три уровня правоохранительной системы, не соподчиненных друг другу. В принципе, на тех же основаниях можно было бы разрабатывать и другие реформы, полагает эксперт.
Предварительно резюмируя дискуссию о децентрализации и федерализме, Андрей Захаров поддержал Евгения Гонтмахера в трактовке федерализма как культурного кода. Он обратил внимание на то, что термин «федералистская культура» давно вошел в обиход, им активно пользуются, а некоторые специалисты вообще считают, что федерализм в первую очередь есть культурное явление, за которым стоит определенная практика социального общения. Не противоречит ли федерализм либеральной идее с присущим ей акцентом на предельное самоопределение частного и отдельного?
Тут стоит заметить, что одной из разновидностей федеративного этоса выступает конфедерация. Федерацию и конфедерацию зачастую противопоставляют друг другу, но это неправильно: это два подвида одного и того же вида. В советской юридической науке считалось, что федерация ― это хорошо, а конфедерация ― плохо. Ничего подобного, федерализм следует представлять в виде континуума, где есть разные точки и поэтому жестких оценок не должно быть. Если личность лучше себя чувствует в конфедерации, то вполне можно конфедерацию принять за ориентир. Именно такова либеральная позиция: человек первичен.
Российскую псевдофедерацию весьма полезно, как это было модно в 1990-е годы, сопоставлять с ЕС, Швейцарией, США, но при этом не стоит забывать, что для нас интереснее нелиберальные модели федерализма. В Малайзии, например, такая модель функционирует на протяжении более полувека, а есть еще Нигерия или латиноамериканские федерации периода диктатур. Сегодня именно эти недоразвитые федерации выступают в роли российской референтной группы.
и следите за обновлениями!
По мнению Чикова, лучший способ регулирования Интернета в России ― откатить ситуацию с государственным регулированием к состоянию 2011 года.
Судя по рейтингу свободы в Интернете, подготовленному организацией «Фридом Хаус», самые лучшие показатели у стран, где меньше всего государственного регулирования Интернета. Интернет был рожден как своеобразная анархическая среда в состоянии саморегулирования, и чем больше такой анархии в хорошем смысле слова, чем больше саморегулирования, тем, соответственно, больше и свободы.
С 2012 по 2015 год в России наблюдался гигантский скачок законодательных предложений по регулированию Интернета ― с пяти до 49, то есть в 10 раз, и с тех пор ежегодно появляется все больше новых: 97 в 2016 году, 114 в 2017 году. За семь лет количество предложений по государственному регулированию Интернета, а это значит, с учетом российских реалий, по контролю за ним, выросло в 20 с лишним раз!
Основные направления регулирования:
— контроль за контентом, когда блокировка контента выделена в качестве главного направления государственной политики. Это началось с закона о так называемых черных списках в Интернете, но сегодня уже десятки разных тем, зачастую самых экзотических, выступают основанием для блокировки. В результате по состоянию на 2018 год в России уже около 10 млн заблокированных нтернет-ресурсов;
— переход от блокировки контента к индивидуальному преследованию его распространителей.
Ассоциация «Агора» наблюдает резкий рост реальных сроков заключения для граждан за размещение постов в Сети. Сухая статистика: до 2015 года не было таких приговоров, в 2015 году ― первые 18 приговоров с реальным сроком, в 2016 году ― 32, в 2017 ― 48. Это те приговоры, которые «Агора» сумела отследить, однако в реальности их может быть больше.
В 2017 году также очень четко обозначилась резко возросшая роль ФСБ в государственном регулировании Интернета. Если до того основными акторами контроля были Роскомнадзор и Генеральная прокуратура, то сейчас эти и другие ведомства лишь выполняют указания Федеральной службы безопасности. Это очевидно и на правоприменительном уровне: произошел резкий переход от дел об «экстремизме» к делам о «пропаганде терроризма». То же наблюдается на законодательном уровне: например, ФСБ является исполнителем «закона Яровой» о тотальном контроле над Интернетом.
В компетенции ФСБ теперь находятся вопросы, связанные с передачей персональных данных, хранением информации и серверов в России, лицензиями на связь, и вообще все, что связано с интернет-бизнесом. Правда, похожие задачи пытаются решать и спецслужбы в демократических, а не исключительно в авторитарных и тоталитарных государствах.
Изучает деятельность спецслужб, одна из основателей и заместитель главного редактора портала Agentura.ru
Как журналист, много писавший о терроризме и освещавший теракты, Бороган особо отметила, что, например, в случае захвата заложников всегда есть возможности для манипуляций со стороны спецслужб информацией о происходящем. При этом очевидно, что нет никакой прямой зависимости между свободой распространения информации в Интернете и терактами. В начале ХХ столетия в России происходило намного больше резонансных терактов, чем в его конце и в начале XXI века, при этом никакого Интернета в ту эпоху не существовало.
Понятно, что у терроризма огромное количество социальных причин, которые имеют отношение к тому, что происходит в обществе и в государстве, а не в Интернете. Но поскольку страх ― удобный механизм контроля и расширения властных возможностей и полномочий, то спецслужбы никогда не перестанут прибегать к этому способу манипулирования и запугивания граждан.
По мнению Бороган, в распоряжении спецслужб России давно есть законы, которые разрешают им вести неограниченную слежку за гражданами; например, они должны получать судебный ордер на перехват информации, но не должны никому его показывать. При этом не существует никаких механизмов контроля за электронной слежкой: нет парламентского контроля, фактически не существует прокурорского (есть только формальный) и тем более нет общественного контроля.
Поэтому надо перестать говорить о том, что полномочий у спецслужб недостаточно. Их более чем достаточно уже сегодня. Однако государства хотят больше контроля над Сетью и с каждым годом регулируют ее все больше и больше.
Интернет начинался как анархистская идея шестидесятников, как идея свободной среды, где каждый может свободно передавать информацию любому другому человеку и с этой точки зрения все равны. Один пользователь сидит в Зимбабве, где у него мало что есть, другой ― в Вашингтоне, где у него есть практически все, но они могут свободно и на равных обмениваться идеями. Такова была изначальная идея Сети, и только благодаря этому появился Интернет. Если бы его создатели смотрели в законы и правила, они бы никогда такого не придумали.
Естественно, что Интернет сейчас анархическим и свободным больше не является. Его идея и основа остаются теми же, но дело осложнилось тем, что в Сети появились такие новые влиятельные акторы, как глобальные интернет-компании. Кроме того, государства также глубоко внедрились в эту среду и прекрасно используют ее в своих целях. Нам всем, в том числе и либералам, приходится искать ответы на новые вызовы.
Из-за того, что цензура в отношении социальных сетей пока не слишком успешна, у государств, включая, к сожалению, и многие европейские страны, появилась идея возвести в свободном пространстве Интернета границы и регулировать его в рамках национального законодательства, местного представления о том, как все должно быть устроено.
Эту нехитрую идею лучше всего объяснил один российский чиновник: «Ну и что? Раньше люди ездили везде свободно: в Средние века взял коня и поскакал, переехал из Италии во Францию ― никто даже не заметил. А потом появились границы, власти поставили погранпосты, появилось государство, оно стало выдавать визы. Вот и нам так надо делать в Интернете ― поставить границы, выдавать визы». Под визами подразумевается, что государство будет разрешать распространять информацию, которую разрешено распространять, и запрещать ту, которую запрещено распространять.
Это уже происходит в России, Китае, других авторитарных государствах: цензура, фильтры, запреты и прежде всего запугивание пользователей, которое действует даже лучше, чем цензура. И слежка за всеми ― основа для запугивания. Вот такая простая цепочка государственного контроля.
Но и демократические государства в этом смысле тоже не на высоте. Недавняя инициатива в Евросоюзе ― регулирование контента, нарушающего авторские права. Звучит на первый взгляд нормально: есть контент, есть авторские права, за которые нужно платить деньги. А в действительности получается попытка запретить свободное распространение информации. Кара за мыслепреступления ― вот чем это на самом деле является. Предлагается, чтобы еще на этапе загрузки контента в социальные сети некий машинный алгоритм выявлял, что там может быть запрещенного с точки зрения авторского права. А мы с вами хорошо понимаем, каков может быть здесь процент ошибок, потому что алгоритм чего-то не понял или что-то понял не так. При этом для блокировки контента и привлечения к ответственности не предусмотрено ни решения суда, ни какой бы то ни было защиты пользователя.
При этом невозможно отрицать, что социальные сети продолжают оставаться платформой для мобилизации протестующих, и власти не очень могут пока им помешать в этом. В то же время небольшие региональные СМИ не могут получить такой же высокий рейтинг и такой же доступ к пользователям, как, например, телекомпания RT ― Russia Today или другие схожие акторы. Государства могут вложить больше ресурсов в свою пропаганду, чем местные СМИ или отдельные пользователи соцсетей, и активно этим пользуются . Так теряется равенство возможностей, характерное для Интернета в 1990-е годы.
Проблема в том, что решения, которые предлагаются для регулирования социальных сетей: расчленить компанию, назначить государственного инспектора, который будет одновременно расчленять, наказывать, цензурировать и выкидывать то, что не нужно государству, вряд ли можно считать удачными. Понятно, что они лишь затормозят развитие и не приведут ни к чему хорошему. Свободы в социальных сетях больше не станет. Если туда придет чиновник ― даже самый лучший, самый европейский чиновник, ― с ним придет цензура.
Единственным выходом из этой ситуации, по мнению Ирины Бороган, не мешающим прогрессу и развитию свободной среды, может быть только общественный контроль за деятельностью гигантских соцсетей. Можно сформировать общественные комиссии из разумных и авторитетных людей, к примеру из отцов-основателей Интернета, к которым существует огромное доверие. Их люди уважают, к тому же обмануть их будет очень трудно. Пригласить туда также тех, кто делает общественно полезную работу в Интернете, например из «Википедии». Вполне возможно собрать по всему миру таких людей, которые пользуются авторитетом и у создателей крупных IT-компаний, глобальных платформ, и у государственных структур.
Общественные комиссии могут получить определенные права по мониторингу деятельности компаний, которые так важны для интернет-среды, ― Google, Facebook, Twitter и др. Эти комиссии обеспечат пользователям возможность знать, какие алгоритмы используются для ранжирования информации в соцсетях и таким образом помогут восстановить равенство в распространении информации, сохранив при этом свободу в Интернете.
Практически все государства не были готовы к появлению Интернета. И меньше всего была готова к этому Российская Федерация. В силу многих причин: тоталитарного прошлого, плохих коммуникаций (не будем забывать, что к 1994 году в России не было цифровых коммуникаций, все это появилось чуть позже и развивалось взрывообразно). И, конечно, меньше всего были готовы российские спецслужбы. Они просто по-другому думали. Они не ожидали, что вдруг окажутся в ситуации свободного коммуникационного пространства. В результате ― непонимание происходящего, которое, в свою очередь, порождало страхи и включало механизм, который наличествует в голове у каждого российского силовика и заставляет воспринимать мир в терминах угроз. Именно тогда Интернет стал выглядеть для них как угроза и все, что исходит из Интернета, тоже стало угрозой. При этом российские спецслужбы так и не поняли, какие на самом деле угрозы исходят из Интернета.
Что происходило дальше? Как обычно это бывало в российской истории, случился острый внутренний кризис. Им стала вторая чеченская война (1999–2000), когда силовикам понадобилось объяснить населению, почему приходится снова воевать в Чечне, почему проиграли в первый раз. В результате была выдвинута простая идея, согласно которой российская армия проиграла первую чеченскую войну… из-за журналистов. Якобы российские либеральные журналисты и западные журналисты подрывали российскую армию, ее боевой дух, были информационной и пропагандистской угрозой, которая остановила хороших российских солдат на их победном пути к Грозному.
После этого и на этой основе в 2000 году впервые была подготовлена Доктрина информационной безопасности РФ, в которой придуманные обвинения в адрес свободной прессы были сформулированы прямым текстом. В доктрине было написано, что в российском информационном пространстве существует огромное количество угроз, среди которых были впервые упомянуты и международные СМИ. Но главное ― в этом документе была закреплена и остается до сих пор очень важной для российского, в том числе кремлевского, понимания Интернета идея о том, что информация является оружием. С этой основополагающей идеей мы и живем до сих пор.
Отсюда вырос содержательный конфликт, который существовал между российским и западным киберсообществами на протяжении последних 15–16 лет. Российские чиновники всегда говорили и говорят про информационную безопасность, информационные угрозы и информационное оружие, в то время как западные эксперты, прежде всего американские и британские, говорят о киберугрозах, кибероружии, кибервойнах и кибербезопасности. То есть американцы и британцы готовы говорить о безопасности проводов и компьютеров, но не о контенте, не об информации как таковой. Российские чиновники, напротив, настаивают на том, что нужно говорить исключительно и прежде всего о контроле над контентом, то есть о контроле над информацией.
Этот спор до сегодняшнего дня не закончен. Но политическая ситуация в мире, а именно еще один политический кризис ― кризис 2016 года и вмешательство российских властей, спецслужб и их структур в американские выборы ― снова перевернул ситуацию. Неожиданно весь мир принялся говорить буквально кремлевским языком: «Русские были правы. Они правильно сразу определили угрозу ― контент. А мы занимались проводами и железом. Нужно переходить на российскую модель защиты и контроля, то есть контроля над контентом». Фактически речь идет о контроле государств над информацией, о том, что люди, которые производят информацию, являются для государств угрозой и должны быть под контролем.
Этому способствует также изменение технической ситуации. После разоблачений Эдварда Сноудена в мире, включая Россию, стали говорить о том, что коль скоро через США проходит весь интернет-трафик, то всем нам нужно что-то с этим делать. Государства (это прежде всего Бразилия, Германия, Франция) задумались о своем, национальном Интернете.
Поначалу речь шла о том, чтобы в каждой стране построить свою систему проводов и кабелей, и тогда трафик будет ходить внутри страны по своим проводам и, следовательно, американцы ничего не смогут контролировать. Эта идея быстро умерла, потому что оказалось, что даже богатые китайцы не готовы в нее инвестировать ― слишком дорого. Кроме того, все эти государства быстро поняли, что провода-то проложить можно, но дело не в том, где проходит трафик, а в том, что трафик ― это контент. А контент рождается не потому, что мы обмениваемся с вами мейлами. Контент рождается социальными сетями, которыми все мы пользуемся, и это не зависит от государства. Где социальные сети положат свой контент, где они будут хранить информацию ― там и будет ходить трафик.
Когда этот факт был осознан, раздались голоса, которые звучат все громче, ― что нужно «приземлять» трафик, создаваемый социальными сетями, в разных странах, национализировать его. Эта идея очень популярна в Европе, например во Франции. Она не менее популярна в России, где также принят закон о переносе серверов на территорию страны. Пока этот закон плохо реализуется, но это огромная правовая дубина, которая висит над головой Google, Facebook и всех остальных.
Характерно, что громкий политический скандал в Соединенных Штатах (о вмешательстве России в выборы) также ускоряет движение государств в сторону установки границ, в направлении того, что в каждой стране будут созданы собственные Google, Facebook, Twitter, что все это будет в конечном счете национализировано. Мы были в Вашингтоне во время широких дебатов о российских троллях в Facebook и Twitter. Совершенно очевидно, что речь идет не только о том, что государство ищет возможность контролировать контент в социальных сетях, но также о попытке использования модели, которая ранее применялась для расчленения телекоммуникационных компаний, таких как, например, AT&T. То есть политики серьезно думают о применении здесь антимонопольного законодательства. Давайте сделаем не один Facebook, а два, лучше три, говорят они теперь.
Важно также учитывать милитаризацию Интернета в прямом смысле этого слова. Интернет, как мы знаем, начинался благодаря американскому военно-промышленному комплексу. Но что происходит сейчас? Очень многие компании, например Google, начинают работать по военным программам. Инженерное мышление, которое в свое время помогло создать Интернет, может его и подорвать, потому что оно носит часто сугубо прикладной характер. Поставьте инженерам задачу, и, если у них есть соответствующие возможности, они ее решат, а морально-этические вопросы обсудят с вами во вторую очередь. В этой логике технического прогресса заключена большая опасность для общества.
Сейчас такой узкий инженерный подход международные глобальные корпорации пытаются применять не только, например, к переустройству городов, что уже происходит в Индии, но и к решению чисто военных проблем. Политики, военные и инженеры задумываются о том, что военные коммуникации неправильно устроены, что военное командование неправильно устроено, что с помощью инженерного мышления можно перестроить и эту сферу. Учитывая паранойю, которая существует и в Европе, и в Азии, и в России (Владимир Путин убежден, к примеру, что Интернет создан ЦРУ), участие глобальных корпораций в американских военных программах даст еще один аргумент скептикам в пользу того, что необходимо разделить Интернет, разделить глобальные компании и, проведя национальные границы в Сети, установить полный контроль государств за своими сегментами.
Существуют ли механизмы, которые позволят нам избежать такого сценария? Это прежде всего влиятельное общественное мнение в Интернете, а также, как считает Ирина Бороган, общественные советы при интернет-корпорациях могут сыграть позитивную и даже решающую роль.
Большинство стран используют все три подхода, Франция и Италия применяют только правовое регулирование, а США — только саморегулирование. Саморегулирование обеспечивается самими частными субъектами без прямого участия государственных органов. Примеры саморегулирования — это отраслевые стандарты и кодексы поведения по фильтрации контента, обычно инициированные и координируемые отраслевыми ассоциациями. Совместное регулирование часто называют регулируемым саморегулированием ― оно существует в рамках сотрудничества частных и государственных субъектов.
Как работает совместное регулирование и почему именно оно является хорошей либеральной альтернативой более жесткому регулированию посредством законодательства, что часто служит предлогом для введения цензуры? Ридель объяснила это на примере Zugangserswwungungszetz (Закон о преодолении доступа), известного как Zensursula (сочетание немецкого слова «цензура» и имени бывшего министра по делам семьи Урсулы фон дер Лейен).
Для предотвращения распространения детской порнографии в Интернете министр представила в 2009 году проект закона, обязывавшего провайдеров с более чем 10 тыс. пользователей блокировать соответствующие сайты на основании ежедневно обновляемого списка Федерального управления уголовной полиции. При этом не было четко определено, кто, как, когда и почему вносит в этот список те или иные сайты. Законопроект вызвал возмущение оппозиции и активистов гражданского общества, включая такие группы, как «Злоупотребление жертвами интернет-барьеров», что в конечном счете привело к блокированию законопроекта в Бундестаге. Вместо этого выбор был сделан в пользу концепции «удаление вместо блокировки» с регулируемой саморегуляцией. Эта модель оказалась эффективной ― уже через две недели 100% обнаруженной детской порнографии на немецких серверах были уничтожены. Даже правительство вынуждено было признать эффективность модели совместного регулирования в Интернете.
Сразу после появления законопроекта о введении блокировок в Рунете стало понятно, что из-за чрезвычайно размытых формулировок и отсутствия какой-либо возможности апелляции закон приведет к массовым блокировкам множества сайтов, которые никак с преступностью не связаны. В частности, под ударом оказывалась энциклопедия «Википедия». После принятия законопроекта в первом чтении сообщество участников русской «Википедии» даже устроило забастовку — ресурс сутки не работал, чтобы привлечь внимание общества. Участники «Википедии» просили не спешить с принятием закона, провести его общественное обсуждение и внести необходимые коррективы. Забастовка русской «Википедии» привлекла внимание множества СМИ. Законодатели тогда нас услышали, но идти навстречу отказались. Нам говорили: вы зря паникуете, «Википедию» никто трогать не будет, вы же наркотиками не занимаетесь, вы не террористы, этот закон не про вас, вами манипулируют, оставьте в покое хороший закон, закон узкого применения. Очень быстро и без изменений закон был принят окончательно и подписан президентом.
Уже через месяц после вступления закона о блокировках в силу «Википедию» внесли в реестр запрещенных сайтов. Причем нам об этом, говорит Козловский, долгое время не сообщали, лишь спустя несколько месяцев вдруг пришло соответствующее письмо от робота Роскомнадзора. Тогда мы обратились в СМИ. После этого чиновники стали присылать нам предписания о том, что та или иная статья «Википедии» нарушает закон. Им, в частности, не нравились статьи о наркотических веществах, хотя сходные статьи имелись, например, и в Большой советской энциклопедии. Несмотря на угрозы блокировки, участники «Википедии» эти статьи не удаляли, а дорабатывали: проверялись источники, выверялась информация, уточнялись формулировки и т.п.
Запросов Роскомнадзора в наш адрес становилось все больше, ситуация постоянно обострялась. Многие региональные отделения прокуратуры и Роскомнадзора стали использовать этот закон для того, чтобы повысить свои показатели по раскрываемости, и однажды мы столкнулись с реальной блокировкой.
В Астраханской области в городе под названием Черный Яр один из помощников прокурора подал в суд на местного оператора связи с требованием заблокировать «Википедию» за статью о наркотическом веществе из конопли. Решением местного суда «Википедия» в России была запрещена, и Роскомнадзор вскоре заблокировал доступ граждан страны к всемирной энциклопедии. Правда, эта блокировка продержалась меньше суток. На следующий день власти внезапно ее сняли ― без объяснений. Впрочем, хотя сейчас «Википедия» в России и не заблокирована, она так и не исключена из реестра запрещенных сайтов. И, соответственно, может быть заблокирована в любой момент, если и когда такое желание у чиновников Роскомнадзора вдруг возникнет.
Казалось бы, раз власти принялись все блокировать, то проблемы, для решения которых принимался этот закон, должны исчезнуть. Должны исчезнуть наркоторговцы, порнография и террористы, а самоубийства вообще не должны происходить и т.п. Но на практике все ровно наоборот. Нарушители и преступники из Сети никуда не делись; более того, благодаря этому закону в России практически не осталось людей, которые бы не знали, как обходить блокировки, или не знали человека, который им объяснит, как это сделать. Так что государство должно бороться с преступностью, а не с информацией о ней, последнее совершенно бесполезно и бессмысленно.
Вторая после блокировок угроза свободе Интернета ― широкое применение законов об авторском праве. Как уже отмечалось, это не только российская проблема, законы о защите авторских прав ужесточаются повсеместно. В результате практически все произведения ХХ века так или иначе оказываются защищены копирайтом. В России нарушение авторского права считается тяжким преступлением — по ст. 146 УК РФ нарушителю грозит до шести лет лишения свободы. Любого человека можно, в принципе, обыскать, найти у него в компьютере или телефоне какую-нибудь фотографию, сохраненную из Интернета и защищенную авторским правом. И посадить на шесть лет.
Такие опасные для общества и нелепые законы нужно реформировать. Было бы прекрасно, если бы во всем мире, начиная, например с Германии, состоялись бы законодательные реформы в области авторского права в сторону его большей либерализации. Необходимо отменить лишние и бессмысленные ограничения, которые на самом деле никаких авторов не защищают. Вместо этого в той же Германии осуществляется тотальный, по сути, контроль контента, отслеживаются все коммуникации, контролируется, что и где каждый человек скачал, после чего выставляются счета и штрафы. К этому же мы идем в России, постоянно обсуждаются цифровые метки на все файлы и тотальный контроль трафика. Именно под маркой защиты авторских прав формируется система государственного контроля вообще всего Интернета. Сегодня системы фильтрации «защищают» авторские права, а завтра начнут выискивать слова и тексты, которые не нравятся властям.
Еще одна важная проблема ― проблема сетевой нейтральности. Когда у разных операторов связи появляется возможность один вид трафика и контента приоритизировать, а другой, наоборот, ограничивать. Ограничивать, например, тем, кто меньше платит, или просто не нравится, или может создать какие-то потенциальные проблемы.
Подобные законы против сетевой нейтральности, повторим, принимаются, к сожалению, во всем мире, поэтому необходимо разработать международное законодательство, которое в явном виде запрещало бы нарушать сетевую нейтральность. Никакой оператор связи, никакой провайдер не должен сам или по указанию государства решать, с какой скоростью, что конкретно и кому он будет передавать. Никакая коммерческая компания не должна превращаться в политического цензора.
Наконец, про тотальный контроль государств над пользователями. Это позорное явление тоже зародилось не в России. Сначала Эдвард Сноуден в деталях раскрыл американскую историю с PRISM, британскую — с Temporа и проч., после чего спецслужбы в России инициировали и провели так называемый закон Яровой. Правда, профинансировать дорогостоящую реализацию закона решили не за счет государства, а за счет операторов связи, которые в свою очередь все расходы возложили на интернета-пользователей. Эффективность этого закона вызывает большие сомнения. После истории со Сноуденом все крупнейшие сайты в России и мире (включая «Википедию») стали препятствовать перлюстрации их трафика. Технически это решается очень просто ― за счет перехода серверов на шифрованные протоколы и запрета протоколов нешифрованных, практически ничего не стоит и делается легко и быстро. Соответственно, многие системы DPI становятся просто бессмысленными.
Исследует вопросы влияния государственного регулирования Интернета и коммуникаций на всех субъектах сетевого взаимодействия.
Первая ― законы, которые вводят в оборот политическую цензуру: закон о блокировках с подачи Генеральной прокуратуры (так называемый закон об ограничении доступа к экстремистским материалам). Одновременно блокируются и сайты политической направленности, оппозиционные ресурсы, например Grani.ru. Kasparov, EJ и т.д. В той же категории в конце 2017 года вступил в силу закон о блокировке сайтов нежелательных организаций, о СМИ ― иностранных агентах.
Вторая категория ― запрет той или иной информации, которая может нести вред развитию детей (так называемые законы о нравственности). Это закон о запрете детской порнографии, суицида, наркомании и проч. Казалось бы, в мире есть определенный консенсус по поводу того, что детская порнография недопустима, и многие европейские страны ограничивают доступ к соответствующим ресурсам. Но что на практике в России признается детской порнографией? Хентай, например. Наша организация по роду деятельности осуществляет мониторинг реестра запрещенных сайтов, мы отслеживаем, какие ресурсы туда вносятся, и, конечно, выявляем тысячи совершенно необоснованных, абсурдных блокировок. Например, заблокирована Венгерская академия наук за распространение научного труда об LSD или ряд статей «Википедии», повествующих о том, что такое вонг, конопля и т.п. В России это считается информацией, распространяющей призывы к употреблению наркотиков, том числе среди детей, и подпадающей под действие законов о защите детства.
Третья категория ― так называемая защита правообладателей. Сейчас в России принята уже третья версия антипиратского закона. Первая версия подразумевала ограничение доступа только к видеоконтенту, вторая расширила возможности по ограничению доступа к ресурсам, распространяющим в так называемой нелегальной форме контент, до всех объектов авторских и смежных прав, за исключением фотоизображений, а третья версия предусмотрела уже ограничение доступа к зеркалам пиратских сайтов. И что же мы видим? Опять блокируются вполне легальные сервисы, даже довольно крупные и известные. Самый яркий пример ― ограничение доступа к третьему в мире по популярности видеосервису французского происхождения Daily Motion, которым пользуется в том числе правительство Франции. Этот антипиратский закон предусматривает возможность ограничения доступа на постоянной основе, так называемую вечную блокировку, без возможности разблокировки. То есть если даже Daily Motion удалит какой-то спорный контент, то Роскомнадзор не имеет права его разблокировать. Всё. Он заблокирован навсегда.
Возвращаясь к категориям законов о регулировании, можно выделить еще такую форму регулирования, как принуждение интернет-компаний к сотрудничеству. Это федеральный закон о VPN, закон о локализации данных в России, закон о переносе персональных данных россиян на территорию России, по которому уже заблокированы и мессенджеры, и крупнейшая социальная сеть деловых контактов Linkedin. Эти законы активно применяются, создан инструмент давления государства на IT-отрасль, притом как на российские, так и на западные компании.
Важно также понимать, какие какие технические нюансы заложены в законах о блокировке. Например, в реестр запрещенных сайтов вносится не только непосредственно страничка или тот или иной контент, но и домен и IP-адрес этих интернет-ресурсов. Что, соответственно, дает возможность операторам связи из-за одного что-то сделавшего не так жителя многоквартирного дома блокировать весь дом. По результатам мониторинга, проведенного «Роскомсвободой», имеется порядка 100 тыс. указаний со стороны государственных ведомств о запрещении той или иной информации и одновременно с этим блокировались и блокируются более 10 млн интернет-ресурсов, которые не несут в себе никакой запрещенной информации. Операторам связи дается возможность ограничивать доступ не только к этим 100 тыс. ресурсов, но и ко всем 10 млн других сайтов, которые находятся на тех же IP-адресах. Это техническая возможность заложена во всех законах об интернет-ограничениях.
Если говорить о слежке за гражданами, то в этой сфере приняты два основных закона. Первый, об организаторах распространения информации (действует с 2014 года), ввел лайт-режим слежки и был принят одновременно с так называемым законом о блогерах, который позднее отменили. О чем говорит «закон об организаторах»? Сервисы, которые вносятся в реестр организаторов распространения информации, обязаны собирать, хранить и предоставлять российским спецслужбам всю информацию обо всех действиях и взаимодействиях своих пользователей. С момента вступления в силу «пакета Яровой» (с 1 июля 2018 года) требуется хранить и передавать уже и всю переписку, все звонки. В реестр внесено порядка ста крупных ресурсов, как российских, так и иностранных. Туда попали сервисы «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, сайты, как большие, так и маленькие, например сайт психоневрологического диспансера, и проч. Указание на внесение в этот реестр выдает ФСБ через Роскомнадзор, который либо обязывает эти сервисы соглашаться на осуществление слежки в интересах спецслужб, либо, по тому же закону, может их блокировать, если они откажутся.
Собственно, громкое дело о мессенджере Telegram началось с того, что Telegram внесли в этот реестр, и де-юре он обязан был собирать и предоставлять российским спецслужбам всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей. Однако де-факто его создатель Павел Дуров отказался это делать и сейчас судится с ФСБ и Роскомндзором. «Роскомсвобода», со своей стороны, призвала пользователей Telegram отстоять свое право на неприкосновенность частной жизни, на тайну связи и выступить в защиту своего права в Верховном Суде России.
По закону об организаторах распространения информации был также заблокирован ряд иностранных сервисов. Это Online Ratia Zella, японский и южнокорейский мессенджер Line и множество других интернет-ресурсов, которые отказались взаимодействовать с российскими спецслужбами.
Как мы можем повлиять на такую грустную повестку? Прежде всего, следует призвать всех лидеров мнений, лидеров общественных организаций, имеющих влияние на свои сообщества, на свои партии и проч., участвовать в совершенствовании инструментов электронной демократии. Такие инструменты в России есть, правда не все из них хорошо работают. Например, активно развивается институт петиций, но имеет пока довольно ограниченное влияние применительно к проблемам федерального масштаба. Если же говорить о проблемах местного и регионального уровня (например, если где-то закрыли детский садик), то часто уже бывает так, что люди через Интернет собирают подписи и проблема очень быстро решается. С отменой законов или введением новых законодательных норм все, повторим, намного сложнее. Мы сами в свое время собрали 100 тыс. подписей против закона о блокировке сайтов, приходили, как одни из авторов, в Правительство РФ защищать эту петицию, но нам сказали: «Мы не можем отменять закон, который только что приняли депутаты! Но ваше мнение очень важно для нас ― мы будем его учитывать в будущем». Ни одна петиция, набравшая 100 тыс. голосов, а таких уже насчитывается пара десятков, не достигла пока цели. Но это вовсе не значит, что институт петиций нет смысла развивать.
Другой инструмент электронной демократии ― портал regulation.gov.ru, на котором публикуются проекты всех готовящихся документов, начиная от ведомственных приказов и заканчивая законопроектами, исходящими от органов исполнительной власти, министерств, служб. В общественном обсуждении всех этих проектов может принять участие любой гражданин, зарегистрировавшийся на этом портале по упрощенной процедуре. На обсуждение проектов внутренних ведомственных приказов, проектов постановлений или законопроектов, которые будут вноситься в Госдуму через правительство, устанавливаются сроки от двух недель до нескольких месяцев. Уже есть случаи, когда общество останавливало негативные проекты.
Самый яркий и громкий пример ― так называемый налог на Интернет, который хотел ввести влиятельный кинорежиссер Никита Михалков. Минкультом был подготовлен и опубликован проект соответствующего закона, мы организовали широкую общественную кампанию, подключили через экспертный совет при правительстве IT-лобби и добились отзыва инициативы. Сложнее всего влиять на законопроекты, которые вносят депутаты. В Госдуме и на уровне аппарата президента все решается крайне кулуарно, тяжело что-то поменять, внести даже минимальные правки. А вот с теми законопроектами, которые проходят через правительство, работать комфортно, общество имеет возможность на них повлиять.
Еще одно важное направление работы ― организация общественных кампаний либо по противодействию тем или иным новым регрессивным нормам, либо, наоборот, за либерализацию и прочие правильные вещи. Например, мы в свое время запустили кампанию за легализацию криптовалют в России. Нам кажется, что это очень важный инструмент — новый стимул для развития российской экономики. Также мы запускали кампании против слежки и активно привлекали к ним в том числе интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева. Во многих случаях активные общественные кампании позволяют достигать результатов.
К счастью, международного регулирования Интернета в настоящее время фактически не существует. Имеется, конечно, Международный союз электросвязи (в прошлом ― Телеграфный союз), который отвечал до появления Интернета за стандартизацию, протоколы и проч., однако он не отвечает за то, как развивается Всемирная паутина.
Один из базовых принципов, заложенных в Сеть: если ты можешь написать какую-то программу, реализовать протокол связи или приложение, ты это делаешь, показываешь всем, и тогда они начинают работать. Кроме того, в Сети действует понятие консенсуса, когда сначала выбирается председатель, доверенное лицо, которое потом принимает решения, собрав все остальные мнения. Это очень либеральный подход, в отличие от стандартных подходов международных организаций. Собственно, все это вместе взятое и обеспечило Интернету огромный успех, причем до сих пор здесь не существует принимающих решения централизованных органов.
Еще раз подчеркнем: не существует международного регулирования Интернета в нашем, российском, понимании. Существуют группы, выросшие из научного сообщества: сначала IANNA, потом ICANN. И они продолжают успешно работать.
С ростом Интернета ситуация, конечно, усложнялась. Мы уже говорили о том, что хорошо было бы создать наблюдательные советы при корпорациях, но та же корпорация ICANN уже имеет совет директоров, который формируется шестью советами и тремя наблюдательными советами. Это большая и сложная организация, которая выросла естественным путем. Структура, в которой участвуют заинтересованные лица ― не государства, не законодатели, а те, кто активно использует доменную систему. Кроме того, существуют неформальные сообщества, которые вырабатывают и поддерживают политику в плане регламентов распределения и проч. Таким образом, давно имеется богатый и позитивный мировой опыт саморегулирования Интернета.
К сожалению, в ICANN, как и в других смежных организациях, очень мало представителей от России. Наши люди, по всей видимости, не очень верят в подобные саморегулируемые сообщества (community), боятся, не участвуют. Хотя представителей России там ждут, во всех этих процессах можно и нужно принимать участие. Когда нам рассказывают, что Интернет создавался ЦРУ и продолжает им управляться, это неправда.
Правда, накопилось немало и горьких моментов. Например, спецслужбы западных стран очень активизировались в Сети. Они поняли, что если не получается действовать прямолинейно, то надо действовать в рамках сообществ. В России многие вещи стали имитационными. К сожалению, московский интернет-эксчейндж (точка обмена трафиком) MSK-IX, домен.ru возникали как общественные организации, но в какой-то момент они претерпели изменения (неугодные учредители были удалены) и в результате оказались в руках государства. Это окончательно убило в индустрии веру в возможность самоорганизации в России.
Еще из позитивного западного опыта: недавно был отменен или сильно ослаблен data re-attention закон в Германии. То есть закон о хранении метаинформации о том, кто и куда ходил в Сети. Законодатели решили, что спецслужбам это не помогает в расследовании преступлений, поэтому были сокращены сроки хранения либо частично закон был вообще отменен. Кроме того, с марта 2018 года в Германии вступил в силу закон о том, что fare use и образовательное использование копирайт-материалов становятся существенно более мягкими. Дополнительно к этому отменен суровый закон, согласно которому немцев штрафуют за распространение видео торрентами. Таким образом, мы отмечаем положительный опыт движения европейцев в сторону улучшения и либерализации регулирования.
Мы ― это технические специалисты. За последние 10 лет нам неоднократно приходилось взаимодействовать с российскими силовиками, которые приходили к нам с запросами, ссылаясь при этом на те или иные законы. Мы обнаружили, что у силовиков существует слепая вера во всемогущество Интернета. Они искренне верят, что если что-то произошло в Интернете или с участием Интернета, то надо лишь прийти к провайдеру и тот сразу выдаст «органам» преступника. Соответственно, законодательство с усилением полномочий силовиков очень хорошо иллюстрирует, как эволюционировал уровень их образования. Сначала они спрашивают у провайдера, кто делал что-то в Сети. Требуют дать информацию и сдать им преступника. На эти требования провайдер отвечает: я не знаю, потому что не обладаю этой информацией. После этого силовики требуют хранить больше информации. Вот и вся их нехитрая логика. У них есть возможность лоббировать законы, и они пытаются упростить себе жизнь, не догадываясь о том, что все это никак ее не упростит и не приведет к нужным им результатам. Силовики пытаются искать ключи там, где светлее. Ведь провайдер имеет инфраструктуру: провода, серверы, пользователей, договора, деньги, счета, а преступники их не имеют. Поэтому кажется проще простого заставить операторов работать за силовиков.
Первый принцип Интернета: Сеть должна быть простой, и весь интеллект должен находиться в границах Сети. Интернет так феноменально развился именно поэтому, что его «сердце» было дешевым. А государственная регуляторика с навешиванием на провайдеров все новых обязательств, увеличением нагрузки на людей и оборудование, которые никуда физически не убегут, резко отбрасывает российский Интернет назад по отношению к мировому.
В этой связи часто вспоминают китайскую модель регулирования. Китай стремится ограничивать «свой» Интернет, но при этом не давит собственный интернет-бизнес. Более того, и Иран не давит собственный бизнес — там уровень ограничений примерно такой же, как в России, но регулирование бизнеса более дружественное. Иранские компании внутри Ирана могут жить вполне нормально. В этом коренное отличие от российской жесткой модели.
В первую очередь Интернет всем дает новые возможности. И это не только возможности для преступников, но и важные новые возможности для государства как сервисной функции для граждан. Что касается локализации трафика, то в России уже 90% всего трафика локализовано. Потому что это выгодно, ведь трафик ищет, где дешевле. Невыгодно гонять между двумя московскими провайдерами трафик через Германию. Фактически весь российский трафик уже и так наш. А все инициативы властей связаны с тем, чтобы усилить контроль, цензуру, добавить возможностей Роскомнадзору и проч. В Германии тоже есть закон о локализации трафика: весь почтовый трафик требуют оставлять на своей территории, чтобы развивать немецкий бизнес. В ответ на это появились франкфуртский интернет-эксчейндж (точка обмена трафиком), берлинский коммерческий интернет-эксчейндж, прочие мелкие операторы. Конечно, это в чистом виде протекционизм, завязанный на безопасность.
Когда мы обсуждаем проблемы Интернета именно с либеральной точки зрения, следует помнить, что ему угрожает колоссальная опасность. Она заключается даже не в том, что государство обрежет провода. Это уже невозможно. Опасность в другом ― государство, в том числе и на Западе, стремится приспособить Сеть под свои нужды, снова сделать человека полностью прозрачным для контроля за ним и порабощения. Мы видим, что сейчас в Китае осуществляется тотальная слежка государства за своими гражданами при помощи возможностей Сети. Интернет ― безусловно положительное явление, это великий технологический прорыв в истории человечества. Но в то же время он открывает поистине ужасные возможности для диктата и контроля со стороны государства.
Прежде всего, все согласны, что всемирная Сеть будет в целом двигаться в сторону шифрования, это глобальный, но вынужденный тренд. Он является естественной реакцией на растущее давление государств. Доля зашифрованного трафика будет расти, количество людей, которые используют шифрование, будет расти, доступность этих сервисов будет расти. Все это будет упрощаться и дешеветь. Уже сейчас по использованию VPN, TOR и проч. Россия в числе мировых лидеров. Резко увеличилось количество пользователей зашифрованного Интернета. Сейчас end2end-шифрование уже является золотым стандартом в мессенджерах. То, что первыми стали делать Telegram, WhatsApp, Signal и другие, сейчас становится частью всей интернет-культуры. Это будет развиваться и дальше.
Второе, что кажется важным: в России заметно замедлился рост числа новых пользователей Интернета. Интернет-аудитория стала пополняться за счет представителей более старшего поколения.
Будет постоянно меняться интернет-мода. Например, сейчас пришла мода на мессенджеры. Происходит смена поколений различных крупных сервисов, что будет дальше, неизвестно. Идет бесконечное соревнование между технологиями развития и технологиями контроля. Технологии контроля всегда догоняющие, потому что сначала все-таки яйцо, а потом курица.
И только на четвертом месте — формирование практики, правоприменительной и судебной. К примеру, до сих пор лишь единицы решений Европейского суда по правам человека относятся к регулированию сферы Интернета. В России их практически нет. Даже самый прогрессивный международный правозащитный судебный орган не успевает за жизнью, не успевает сформулировать стандарты в этой сфере, переписать конвенциональные свободы под интернет-среду. Юристы всегда будут стоять за спинами технарей, придумывающих и создающих что-то новое.
Таким образом, свои усилия в борьбе за свободу слова мы должны сосредоточить в том сегменте Интернета, который связан с политикой, общественными дискуссиями, общественными расследованиями. Нашим приоритетом должна стать борьба с политической цензурой.
и следите за обновлениями!
Председатель Общероссийского общественного движения «Выбор России», политик, член Координационного совета Экспертной группы «Европейский диалог»
Тут налицо серьезная содержательная проблема. С одной стороны, западные либеральные демократии пока устойчивы. С другой — некоторые полагают, что они могут потерять устойчивость, если давление миграции будет слишком сильным. Возникает дилемма: мы, как либералы, хотим устойчивости либеральной демократии, а значит, надо регулировать миграцию, но тем самым мы также ставим под удар устойчивость либеральной демократии, которая против любого чрезмерного регулирования. Где здесь золотая середина? Есть ли она? Нужна ли она? Достижима ли?
Миграция ― это часть современного мира, естественный процесс, который дает огромные плюсы, так что не надо ударяться в алармизм. Если бы не было массовой миграции после распада Советского Союза, то мы бы не достигли вообще ничего ― в России некому было бы работать. Сегодня у нас стремительно продолжает терять население Дальний Восток и Сибирь, поэтому нам нужно позитивно относиться к миграции и думать о том, как переменить массовое негативное представление о миграции на позитивное. И принимать все меры к тому, чтобы люди приезжали, социализировались, хорошо говорили и писали по-русски, становились частью нашего гражданского общества. Тогда от них будет одна только общественная польза, как от двух замечательных таджикских ребят, которые в Кемерово проявили себя совершенно героически, спасли 50 человек из горящего торгового центра.
Россия сегодня заставляет вспомнить «Капитал» Маркса, где он описывал дикий капитализм в Англии начала XIX века, когда любого человека можно было нанять на работу, уволить с работы, заплатить или не заплатить зарплату, нещадно эксплуатировать или не эксплуатировать, морить голодом детей, держать рабочих в сырых подвалах. В России в этом смысле все очень либерально, но это не значит, что цивилизованно.
Тема миграции, которая очень важна и для Западной Европы, и для России. Европейский союз сталкивается с большим притоком мигрантов, у нас их еще больше — по некоторым оценкам, Россия занимает по этому показателю второе место в мире после Соединенных Штатов Америки. Российские правые силы активно эксплуатируют эту тему, пугают общество мигрантами, предлагают ввести визовый режим со странами Центральной Азии. Очень много схожего в настроениях в России и в Западной Европе.
Российский демограф и экономист. Доктор экономических наук, действительный член Российской академии естественных наук. Руководитель Центра демографии и экологии человека при Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Теперь по существу: XXI век, безусловно, будет веком очень крупных международных миграций. Это обусловлено тем, что в результате демографического взрыва региональный и глобальный баланс сильно изменился. На миллиард примерно человек, живущих в развитых богатых странах, приходится шесть с половиной миллиардов людей за их пределами. Мир сейчас ― это система сообщающихся сосудов, поэтому неизбежно будет большой переток населения. Мы это давление ощущаем, и оно будет нарастать. В этом смысле все то, что сейчас называется миграционным кризисом, лишь раннее бульканье на поверхности воды, которая через какое-то время закипит и будет гораздо сильнее бурлить. Эпизоды, связанные с сирийскими беженцами и так далее, это не что-то исключительное, а проявление данной тенденции. Так же, как африканцы, которые через Средиземное море с риском для жизни пытаются проникнуть в Европу, как мексиканцы проникают в США и т.д.
Эта ситуация беспокоит население развитых стран. Беспокоит не зря, поскольку она действительно содержит в себе большие риски. Надо понимать состояние тех обществ, из которых выезжают эти люди. Это бедные общества, бедные страны, где у молодежи нет перспективы. В то же время это страны, которые пережили за последние десятилетия необыкновенный всплеск урбанизации, в которых очень молодое население. Медианный возраст в странах Африки и во многих странах Азии около двадцати лет, иногда даже меньше.
Этот поток мигрантов, который уже активно движется, скоро обрушится на Европу и Северную Америку, как и на другие регионы (в том числе на Россию). Мы увидим поток новоиспеченных представителей городских слоев ― очень молодых, неблагоустроенных, неблагополучных, не имеющих перспектив. Это социальный сухой порох, который может воспламениться в любой момент, который очень восприимчив к разного рода экстремистским идеологиям, притом неважно каким (марксизм, исламизм, все что угодно ― любая идеология, которая поднимает на борьбу и порождает фанатизм). И с этим связаны, конечно, очень большие потенциальные опасности.
Миграционное давление уже напрягает и настораживает население развитых стран, и общественное мнение становится антимигрантским, что приводит к сдвигу политического спектра во многих странах вправо. Потому что либералы ― за свободу передвижения, а народ ― против, он поддерживает любые экстремистские правые течения, которые обещают населению, что остановят миграцию. Эти обещания на практике нереализуемы. Ничего и никого они не остановят. Миграция не всегда такая, как сейчас. Она может приобретать разные ― в том числе и очень острые — формы (в человеческой истории миграции последних тысячелетий вообще всегда связаны с военными нашествиями). Может, буквально с такими формами мы и не столкнемся, но все-таки надо понимать, что уже сейчас число мигрантов в мире, по критериям ООН, оценивается примерно в четверть миллиарда человек. Это больше, чем все население Земли во время Великого переселения народов. Поэтому речь идет о крупномасштабных и долговременных движениях. Это первое, что следует осознать обществу и политикам.
Россия пока комфортно чувствует себя в стороне, потому что она испытывает все-таки не такой напор миграции, как Соединенные Штаты со стороны Латинской Америки или, скажем, ЕС со стороны Африки и Азии. Но это временное явление, хотя бы потому, что росийская южная граница ― это граница с очень многолюдными государствами. Чего стоит один лишь Китай. Хотя, как подчеркивают российские дипломаты, у нас очень хорошие отношения с Китаем, речь идет о таких фундаментальных сдвигах, которые не чувствительны к мнению дипломатов. Любые территориальные претензии со стороны Китая, которые всегда глухо существуют, могут вылиться в будущем в какие-то действия. И это тоже будет миграция, но только в другом виде.
Что может сделать перед лицом таких мощных вызовов Россия, вообще принимающие страны? Здесь возможны только два варианта: или пытаться «тащить и не пущать», или все-таки находить какое-то решение по приему мигрантов, пусть и в разумно ограниченном количестве. При этом для такой страны, как Россия, мигранты ― очень важный ресурс, потому что она имеет очень маленькое население для своей территории и остро нуждается в людях. Так что российский выбор прост: или мы будем и хотим использовать этот ресурс, понимая, что легко его не возьмешь, а значит, нужно как-то вкладываться в это, или мы отказываемся от этого ресурса. Сейчас официальная линия Москвы скорее вторая. Мы сквозь зубы пускаем к себе какую-то часть мигрантов, рассматривая их как пополнение на рынке труда, не более того. У нас нет выраженной, сформулированной четко политики в отношении миграции. Но сама практика властей ― ограничительная, полицейская, которая совершенно не учитывает того, что речь идет о ценном ресурсе, который, пусть и дорогой ценой, необходимо принимать.
Надо открыто признать, что Россия нуждается в людях — Сибирь нуждается в людях и Дальний Восток нуждается в людях, а значит, надо проводить совершенно другую миграционную политику. При этом мы вовсе не говорим, что надо открыть двери и сказать, что раз мы нуждаемся в людях ― приходите все кто хочет. Какова цена вопроса? Главное в том, сможем ли мы интегрировать мигрантов так, чтобы они стали нашими соотечественниками или же они навсегда останутся носителями каких-то экстремистских, исламистских или других идеологий и вообще другими по религии, культуре, обычаям и т.д. То есть ключевой вопрос ― это вопрос о возможностях абсорбции, адаптации, интеграции мигрантов. Просто так она не дается. Нам кажется, что главный лозунг миграционной политики должен звучать примерно так: мигрант во втором поколении уже не мигрант. На это надо ориентироваться. Чтобы достичь такой цели, нужны очень серьезные усилия, государственные программы ― продуманные, последовательные и, безусловно, ресурсоемкие. В это надо крупно вкладываться. К сожалению, такими программами не владеет сегодня ни одна страна в мире (хотя есть Канада, которая гораздо лучше других обходится с мигрантами, ее подход основан на здравом смысле и в этом отношении вполне либерален). Это должны быть очень крупные программы. Конечно, говорить в условиях современной России об этом не приходится, потому что государственная политика ориентирует совсем в другом направлении восприятие всего миграционного контекста. С официальной российской точки зрения, даже если она и не выражена явно, Ангела Меркель занимается попустительством в отношении мигрантов, а россияне «такого никогда не допустили бы».
Также Анатолий Вишневский подчеркнул, что миграция ― процесс двусторонний. Он зависит не только от принимающей стороны и от того, что там происходит, что думают ее политики и население, но также от того, что происходит в странах, откуда приезжают мигранты. Мы не можем это контролировать. Даже если мы сейчас поставим вопрос об управлении миграцией нелиберальными методами, любыми методами, мы не сможем управлять ситуацией в Мексике или в Бангладеш, где люди задыхаются от чрезмерной плотности населения. На уровне политических деятелей и интеллектуалов, экспертов, нет достаточного понимания общей миграционной ситуации и в мире в целом, и в каждой отдельной стране.
В нашей дискуссии все время говорилось то о трудовой миграции, то вообще о миграции. Но это далеко не одно и то же. Трудовая миграция ― это потребность рынка труда, а потребность в людях ― это другое, и для России второе, может быть, важнее, чем первое. Князь Иван Калита вошел в историю как собиратель русских земель, но сейчас земли собраны, и нынешний Иван Калита должен собирать людей. У нас есть президент, правительство, но при этом нет впечатления, что кто-то из них видит Россию как единую геополитическую единицу с ее реальными проблемами.
Проблема идентичности волнует всех. Д. Коулмен говорит: у нас сложилась своя политическая культура, а мигранты ― носители другой политической культуры, они не понимают нашей демократии, наших идей. Это кажется вполне разумным. Миграционное давление на Европу меняет политическую культуру, даже когда мигранты находятся вовне. Политический спектр смещается вправо, граждане забывают о своих демократических принципах, хотят закрыть границу. Даже американцы, которые так гордились, что они нация иммигрантов, даже они строят стену.
Один известный автор писал, что когда каждая группа мигрантов замыкается в себе, то это не мультикультурализм, а много монокультурализмов. Поэтому бороться надо за культурную свободу, ведь часто сами мигрантские сообщества оказывают на своих членов очень сильное давление — бывает, что при всем желании из них нельзя выйти.
Миграция очень многоплановая проблема, которую, безусловно, надо широко и открыто обсуждать в разных аудиториях, но хотелось бы, чтобы в этом обсуждении приняли участие люди, которые руководят странами и отвечают за решение этой проблемы.
Доктор социологических наук, руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН
Во-первых, в Россию едут в основном граждане государств постсоветского пространства. В последнее время подавляющая их доля ― выходцы из стран Средней Азии. Хотя социальная, политическая и экономическая среды России и этих новых независимых государств все больше расходятся, между ними сохраняется и много общего. Менталитет обществ, технологии, традиции образования ― все это общее в известной степени облегчает адаптацию мигрантов из этих стран к российским реалиям. Кроме того, все они приезжают работать. Потоки из стран постсоветского пространства, а это сегодня около 90% всех мигрантов в России, сильно подвержены экономической конъюнктуре. Ситуация в России и ситуация в стране выхода существенно влияют на конъюнктуру миграционных потоков.
Во-вторых, приезжая в Россию, мигранты не могут претендовать ни на какие социальные пособия. Они понимают, что могут рассчитывать исключительно на себя.
Анатолий Вишневский уже отмечал, что перед нами стоят очень серьезные экономические, демографические вызовы и что самая большая опасность ― социальная исключенность мигрантов. Решение этой задачи является приоритетным. Единственный выход ― разумная политика адаптации и интеграции мигрантов. Но это подразумевает серьезные преобразования институтов, которые должны этому способствовать, — образования, здравоохранения, судебной и правоохранительной систем. Важная роль у местного самоуправления. Сегодня миграционная политика в России сводится к тому, что ответственность за ситуацию на местах федеральный центр возлагает на локальные сообщества. Не только на региональные власти, но и на органы местного самоуправления. Но у последних нет для этого ни квалификации, ни ресурсов ― ни человеческих, ни финансовых, вообще никаких. Ответственность сбрасывается на места ― и всё. В результате проблемы с миграцией не решаются вообще никем.
В целом федеральная российская власть не очень хорошо представляет, каким ей видится будущее России. Есть две альтернативные точки зрения. Первая — либеральная: мы должны развиваться с опорой на европейские ценности, на права человека и т.п. Вторая: Россия должна развиваться с опорой на русскоправославное культурное ядро. Вторая позиция автоматически подразумевает, что никакие потоки мигрантов ― по определению инокультурных и иноэтничных ― не способствуют достижению этой цели и, соответственно, должна быть решена задача максимального их ограничения. Между этими двумя видениями будущего идет постоянная борьба, которая сказывается на реализации миграционной политики, на подходах к ответам на вызовы, связанные с притоком мигрантов.
Существуют серьезные проблемы ксенофобии и отношения к ней либералов, организации политики интеграции мигрантов поднял автор настоящей статьи. Возможно ли проведение либеральной миграционной политики в том случае, если отсутствует доброжелательное отношение со стороны принимающего общества? По всей видимости, нет. Кто наиболее подвержен ксенофобным настроениям, по крайней мере в России? Это неуверенные в своем будущем люди, которые проецируют свои страхи, тревоги, фрустрации на мигрантов, делая их козлами отпущения. Проблема и в том, что, например, на последних выборах мэра Москвы даже многие либералы выступали с ксенофобными заявлениями. Часто мы видим, что можно быть либералом во всем, кроме миграции. Хотя сегодня уровень ксенофобии минимальный по сравнению с 2013 годом, задача либералов в том, чтобы не позволять эксплуатировать ксенофобные настроения. Потрафлять им не просто нелиберально ― антилиберально.
Относительно либеральных принципов согласимся с тем, что Штефан Шлегель обозначил как честность и реализм. Можно к этому добавить и прагматизм. Потому что инструменты, о которых мы говорили, такие как квоты, визы, разрешения и проч., из арсенала в первую очередь консерваторов. Задача либералов ― показывать их, во-первых, низкую эффективность; во-вторых, непросчитанность всего спектра последствий их применения. Следует откровенно признать: возможности по регулированию миграции крайне ограниченны.
Важнее всего сейчас выстроить многоступенчатую систему мер по интеграции мигрантов. Хочешь получить разрешение на временное проживание ― должен отвечать определенным критериям, хочешь получить вид на жительство ― тоже выполняй предписанные критерии, хочешь получить гражданство ― выполняй критерии. Главное, чтобы на каждом этапе у мигранта была полная свобода выбора. Это должен быть его личный путь, личный выбор. Не выбор, навязанный государством, а личный. Тогда возникнет совершенно другая мотивация и совершенно другая эффективность. При этом важно, чтобы эти меры и критерии были четкими, ясными и транспарентными, прошедшими широкое публичное обсуждение.
И последнее: надо очень осторожно относиться к проблеме идентичности. Один известный социолог, Зигмунд Бауман, сказал однажды, что идентичность пускает корни на кладбище сообществ, но процветает благодаря своему обещанию оживить мертвецов.
Депутат Бундестага от СвДП, председатель Комитета по правам человека
Либеральный подход заключается в ограничении регулирования, в минимуме регулирования. Но второе основание либеральных ценностей ― верховенство закона. Таким образом, немецкие либералы сидят на двух стульях. С одной стороны, им нужно знать, кто приезжает в страну, кто и где может остаться и что будет делать. И кто должен уехать. С другой стороны, белый мужчина в Германии не виноват, что родился там и таким. Как нет ни в чем вины сирийского мигранта, родившегося в Сирии. В идеологической перспективе либерализма не должно иметь значения, где вы родились. Но в реальной жизни это имеет значение, причем большое значение.
Одна из главных причин того, что мы называем сейчас миграционным кризисом, ― недофинансирование Всемирной продовольственной программы. Не было выделено достаточно денег на программу снабжения больших лагерей беженцев, которым не хватало еды и медикаментов. А ведь люди все еще мигрируют в соседние страны и им все так же нужна экстренная помощь от нас. Меньше всего мигрантов уезжает далеко ― потому что это дорого, опасно, связано с большим количеством проблем.
В Германию был миграционный поток по двум основным маршрутам: западнобалканскому (закрыт после того, как Турция заключила сделку с Германией) и средиземноморскому (до сих пор работает). Когда канцлер Ангела Меркель произнесла историческую фразу: «Добро пожаловать, двери открыты, и вы можете приехать», миграция пришла в движение.
Торговцы людьми тут же распустили слухи о 20 тыс. евро, о квартирах, о том, что можно будет сразу принять участие в социальной системе, получать социальные пособия и т.п. Сейчас многие приехавшие сильно разочарованы. Люди начинают возвращаться домой, они говорят: мы не можем работать в Германии, мы не получаем денег, мы должны бегать по бюрократическим кабинетам, нам нужно долго ждать бумаги. Это действительно реальное описание проблем. В то же время ситуация в Германии отчасти сопоставима с Россией. В стране серьезные проблемы с демографией — на данный момент демографическая пирамида выглядит как V. У нас почти полная занятость, что немного странно, потому что работников не хватает практически во всех областях экономики.
Политически с большим притоком мигрантов в Германию мы немедленно получили рост поддержки популистских программ, всплеск антимиграционной идеологии. Конечно, все это построено на ошибочных оценках и представлениях, но это то, с чем мы должны иметь дело.
Почему люди идут на огромный риск, на огромные затраты, чтобы попасть в Европу? Люди хотят работать у себя на родине, но не видят там для себя будущего. Одна из самых либеральных идей ― увеличить для людей шансы там, откуда начинаются потоки миграции. Речь идет не только о внешней политике, помощи в целях развития, но и о торговле, торговых соглашениях, субсидиях сельскому хозяйству.
Второе либеральное основание ― вопрос внутреннего законодательства. В Германии создана трехканальная система легализации мигрантов: в соответствии с Женевской конвенцией о беженцах, в зависимости от политической ситуации в странах происхождения (когда их жизнь в опасности в силу закона), миграция рабочей силы (то, что нам нужно!). По первым двум основаниям легализации мигрантов мы ничего не можем сделать. Мы можем попытаться изменить политику, попробовать работать вместе со странами происхождения, выступать против войны, но наши возможности в этой части невелики. Однако трудовых мигрантов мы вполне можем отбирать, можем заявить, что нам нужны рабочие. Поэтому немецкие либералы из СвДП пытаются утвердить в Германии систему, аналогичную канадской, то есть систему баллов. Людям зачисляются баллы за то, что они делали раньше, за их образование и квалификацию. Это вполне рациональный и вполне понятный подход, и нам нужен новый закон, который бы работал с такой балльной системой. При этом между вышеназванными тремя каналами легализации мигрантов нет преград. Если вы адаптированы к Германии, говорите на немецком языке, много работали, тогда вы можете перейти в «рабочий сектор» (третий канал), даже если вы прибыли по треку один или треку два. Наконец, путь четвертый: возвращение обратно на родину, если первые три пути не удались. Если вы не следуете правилам нашей страны, если у вас нет законных прав оставаться в стране по первым двум причинам, тогда придется вернуться. Это то, что мы должны попытаться реализовать.
Эти четыре канала, четыре способа остаться в стране нуждаются в разработке критериев, которые необходимо объяснить населению Германии, потому что на практике люди не различают категории мигрантов (из-за войны они прибыли или в поисках работы). Граждане видят лишь просителей убежища, иностранцев и миграцию. Это существенная проблема для либералов, потому что наши ответы часто очень умны, но мы не всегда можем их хорошо объяснить.
К миграции следует подходить как к любому другому вызову. Либералы должны разработать дорожную карту, которая покажет, как уйти от запрещенного в принципе и разрешенного только в исключениях к разрешенному в принципе и запрещенному только в исключительных случаях. Как можно это сделать? Step by step. Не laisser-faire, а умное регулирование.
Надо очень скептически относиться к способности государства определять, по каким причинам люди мигрируют. Это иллюзия, на которую юристы полагаются, когда думают, что между беженцами и теми, кто ими не является, есть четкая граница. Такую границу между причинами миграции провести невозможно. Чаще всего приходится говорить о сочетании причин: политических, экономических и идеологических.
Часто думают, что экономические мигранты ― феномен, который можно одолеть. Лукас Кёлер другого мнения. Он вообще считает, что следует приветствовать добровольную миграцию — не как средство развития, но как средство обретения возможности быть счастливым.
Миграция влечет серьезные финансовые последствия: нужно строить школы, расширять социальные сервисы. Но эти затраты будут компенсированы за счет положительных эффектов на рынке труда. Будут и проигравшие в странах приема ― неквалифицированные рабочие, пожилые люди... Также коренных жителей будет беспокоить само по себе присутствие мигрантов. Если кто-то скажет: «Я больше не чувствую себя как дома, потому что на вокзале так много африканцев», то надо принять во внимание это беспокойство и убедить скептиков, что преимущества от миграции перекрывают потери. Затем нужно убедиться, что эти преимущества перераспределябются так, чтобы даже те, кого считают проигравшими, получили убедительную возможность рассматривать себя как участников общей победы.
Выступающий заметил, что его часто спрашивают, не пострадала ли в ходе последних выборов партия СвДП от такой выраженной либеральной позиции. И вообще, позицию свободных демократов избиратели считают больше открытой для мигрантов или больше закрытой по сравнению с позицией канцлера Меркель?
В Германии существует широкий спектр партий ― от самых левых до самых правых. Христианско-демократический союз, партия А. Меркель, традиционно воспринималась как правая. AfD («Альтернатива для Германии», АФД) пришла и заняла нишу, которая, возможно, никем не была заполнена. Между ХДС и АФД есть еще баварская ХСС, которая является немного более правой, чем ХДС. Они также не объяснили, что происходит, не дали людям никакой альтернативы. Избиратель ХСС не голосовал за АФД, но и не следовал курсу Меркель: курс Меркель был слишком левым для них, а курс АФД ― слишком правым. Либералы поступили очень логично, старательно объясняя, что происходит. Это помогло многим избирателям перейти от ХСС не к АФД, а к СвДП. Именно поэтому в Баварии ХСС потерял больше избирателей, чем АФД.
Является ли курс СвДП более открытым, чем курс Меркель? Нет, он не более открытый. Но позиция Меркель сильно изменилась. Думаю, она все еще верит, что политика «добро пожаловать» была правильной. Однако эту политику пришлось исправлять, и это уже не было «добро пожаловать». Либеральная СвДП гораздо более открыта для одного из четырех каналов ― для поддержки рабочей миграции. Если человек приезжает в Германию, чтобы улучшить свои жизненные шансы, для либералов это хорошо.
Советский и российский исследователь миграции.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, как крупный чиновник, понимал, что обойтись без дешевой рабочей силой Россия не может, платить этой рабочей силе столько же, сколько местным, тоже невозможно. Поэтому все закрывали на перекосы глаза и закрывают до сих пор. При этом очень много говорилось о миграционной политике, что будто бы она у нас современная, что можно навести в ней порядок. В реальности мы не в состоянии сейчас этого сделать. Надо честно говорить об этом. Не в интересах России наводить здесь порядок. Когда же речь идет о квалифицированной рабочей силе, которая по закону и по своему праву претендует на приличный заработок, на приличную жизнь, это вполне возможно. Это тот контингент, который нам очень нужен. С ним можно и нужно все делать по закону.
Возьмем недавний пример, когда резко ухудшилась экономическая ситуация и Россия попыталась немножко нажать на мигрантов, так как лишняя рабочая сила висела грузом на некоторых компаниях. Оказалось не так легко отправить домой узбеков, для которых дорога очень дорогая, которые не хотят уезжать, ― они предпочитают переждать кризис. Был один-единственный год, когда узбеки выехали массово из России, а уже на следующий год экономика пошла вверх, вновь появилась работа, и снова все поехали в Россию — были отмечены максимальные цифры присутствия мигрантов, которых мы считаем временными. Среди них на самом деле очень много невременных, которые живут тут годами, не будучи легализованными. Люди едут на работу в Россию, считая, что в ней можно и от начальников спрятаться, и вообще на российских просторах затеряться.
Поэтому все разговоры российских руководителей о более жесткой миграционной политике ― лукавство. У России нет необходимого богатства. Кроме того, персонал, который следит за мигрантами, полиция прежде всего, достаточно развращенный. Это ведь так легко: ты на мигрантов нажмешь ― и получишь от них деньги. Пусть небольшие, пусть сто рублей, но ты можешь собрать их со многих мигрантов и получить большой дополнительный доход. Так что я столь скептически смотрю на возможность регулирования нашей миграционной политики.
Заместитель директора Федеральной миграционной службы (2003-2008 гг.), эксперт по вопросам миграции
В институтах власти была собрана команда единомышленников, которые понимали, что мигранты нужны рынку труда, что мигранты ― это прежде всего люди, которым в России нужны две вещи ― работа и защита их прав. Собственно говоря, на этом и строилась миграционная политика. В России был тогда дефицит трудовых ресурсов, покрывавшийся за счет миграции. В результате все крупные национальные стройки: к саммиту АТЭС во Владивостоке, Олимпиаде в Сочи и другие ― обеспечивалась в основном руками мигрантов. Когда принимались специальные законы о стройках в олимпийском Сочи, позже — о чемпионате мира по футболу, в них содержались целые разделы о привлечении рабочей силы. Предлагалось приезжать без всяких разрешений ― лишь бы работали. Было ясно, что без мигрантов построить стадионы и другие объекты мы не сможем.
Теперь же ситуация изменилась заметно в худшую сторону. Такие слова, как «таджик», «узбек» и проч., которые должны обозначать древние народы, древние культуры, притом намного более древние, чем наша, стали нарицательными обозначениями людей, которые поражены в своих базовых правах. С ними можно делать что угодно, они предназначены только для физической, черновой, тяжелой работы. Они превратились в отдельную страту нашего общества, которая не всегда соприкасается с внешним миром и с нами. У них начинает даже вырабатываться собственный язык общения между собой, потому что они плохо знают русский язык, это первое постсоветское поколение, которое уже не имело русских учителей русского языка.
Что касается выстраивания миграционной политики, то в 2005‒2007 годах мы понимали, куда мы движемся, был понятен основной вектор политики: легализация и защита прав мигрантов. Мы тогда вывели из тени 3 млн мигрантов за один только год. А что сейчас? С одной стороны, принята Концепция государственной миграционной политики, достаточно либеральная. Это тот редкий случай, когда сложился консенсус чиновников и В. Путин в 2012 году документ подписал. Однако, когда мы проанализировали выполнение Концепции, выяснилось, что на практике Россия двигалась ровно в противоположном направлении. В 2015 году вступил в силу пакет новых регулирующих законодательных актов. Был утвержден новый патент на работу в России ― достаточно сложный и дорогой для мигрантов. Второе: появилась норма 90 на 180 (разрешенный срок пребывания иностранцев в России). Дальше: запрет так называемых резиновых квартир, запрет на въезд и еще целый пакет документов. Потом долго не было инструкций по исполнению законов, народ встал ― ждали их выхода. В январе 2015 года случился провал по въезду сразу на 70%. Все сидели дома и ждали, как будут работать новые законы. К марту все прояснилось, инструкции были написаны, и поток снова вырос.
Весь наш инструментарий регулирования миграционных процессов взят из прошлого века. Жесткий паспортный режим переименовали в «иммиграционный учет», прилепили к нему «принимающую сторону» ― аналог приглашающей стороны, когда иностранец приезжает по визе. Но при свободном въезде принимающая сторона не играет такой роли, зато приводит сразу к нарушениям. При таком огромном потоке приезжих может помочь только единый информационный ресурс по учету иностранцев. Например, в Европейском союзе действует огромная, мощная база данных (Шенгенская система). В ней проходит до 70 млрд запросов в год по иностранцам и примерно 40 млн сигналов тревоги, когда что-то случилось. В России нет никакого информационного ресурса. На его создание потратили 10 млрд рублей, после чего Федеральная миграционная служба прекратила свое существование, а МВД решило, что им эта информационная система не нужна, и попросило денег на создание другой. Сейчас мы находимся в точке, когда не знаем практически ничего о мигрантах, ни сколько их, ни где они находятся. Вся статистика недостоверна. Работают пока только территориальные базы данных, «Территория». Что они собирают, что направляют в центр, как в центре обрабатывают эту информацию, неизвестно. Информация засекречена. А коли так, чиновники что угодно могут делать и заявлять.
К чему это привело? Полицейские регистрируют иностранцев так ― создают подставные фирмы, регистрируют десятки тысяч человек, а потом убирают их из базы данных. Мигранты считают, что они зарегистрированы и законно находятся в стране.
Оказывается ― нет. Уголовные дела в иммиграционной сфере в отношении полицейских и эфэмэсников составляют самый большой процент среди всех сотрудников правоохранительных органов. Мы практически потеряли контроль над этими процессами, и нет даже попыток взять миграцию под официальный контроль.
Чтобы никто не мог совершать никаких манипуляций, достаточно создать общую цифровую платформу, в которой бы шел обмен между базами. Но именно этого все боятся. Потому что, если ведомственные базы станут прозрачными, рухнет вся система коррупции.
Единственный новый инструмент, который появился, ― программа переселения соотечественников. Посчитали, что за счет соотечественников мы потесним трудовую миграцию, что в Россию поедут русские люди и тогда меньше будет узбеков и таджиков. Расчет не оправдался, программа не заработала. Если бы не украинцы, которые составили половину этой программы, она вообще умерла бы.
Сотрудник немецкого научного Общества имени Макса Планка
Нет оснований полагать, что миграция изменит наше общество, подобно изменению климата и технологической революции. Важно смотреть на вещи трезво. Следует помнить, что довольно стабильная часть населения всегда считает иммиграцию слишком высокой, на каком бы уровне та ни находилась. Тот факт, что ксенофобия больше распространена в европейских странах с очень небольшим уровнем иммиграции, лишь подтверждает это. Причем иммиграцией поддерживается не только правый популизм, но и все закрытые политические идеологии, как справа, так и слева.
Важно увязывать миграционную политику с торговой политикой, открытостью по отношению к другим странам, открытостью к сотрудничеству и чужому опыту. Не следует думать о миграции как о нарушении естественного состояния вещей. Часто ее сравнивают с потоками, которыми должны уравновешиваться существующие дисбалансы, диспропорции. Либералы должны избегать таких сравнений по нескольким причинам, в том числе потому, что это сводит к минимуму личность мигранта, лишая его индивидуализма и свободы воли.
Есть такое явление, которое называется миграционной бомбой: если люди спасаются от нищеты, они становятся гораздо более мобильными, гораздо более склонными к миграции. Поэтому если можно что-то сделать для экономического развития Ближнего Востока и Африки, то надо это сделать. Мы кое-что уже сделали для торговли и для развития, и мы должны продолжать делать это ― в ожидании большей миграции благодаря этому и не ожидая меньшей. В общем, мы должны думать о миграции как о естественной составляющей глобализированного мира.
Ограничение доступа людей к рынку труда вредит им. Можете вы это сделать или нет ― вопрос соотношения сил. Посылающие страны, скорее всего, будут настаивать на том, чтобы открыть доступ к рынку труда для своих граждан, поэтому принимающим странам придется пожертвовать полномочиями по ограничению миграции. Очень интересный случай — Швейцария. Чтобы иметь доступ к единому рынку ЕС, она должна была признать свободу передвижения людей, обеспечить доступ к своему собственному рынку труда и услуг. Поэтому Швейцария не хотела вступать в Союз. В течение следующего года мы увидим, что то же самое произойдет с Великобританией. Если вы хотите заключить торговое соглашение с Индией или Таиландом, вам придется легализовать для них часть миграционного потока.
Итак, вот что следует сделать:
1. Мы не должны считать миграцию мимолетным нарушением естественного порядка; напротив, мобильность — это естественная составляющая человеческой деятельности. Мы должны перестать думать о миграции как о чем-то кризисном. Миграция является структурной чертой глобализации, и если глобализация не исчезнет (что было бы прискорбно), то миграция не только останется, но и усилится, поскольку все больше людей будут стремиться убежать от нищеты и государства ничего не смогут с этим поделать. Поэтому мы должны честно сказать, что будущее, вероятнее всего, будет сопровождаться еще большей миграцией во всем ее многообразии (скорее даже миграцией добровольной и изобретательной), и мы не должны запрещать ее, что было бы этически проблематично и практически бесполезно.
2. Общий либеральный подход к управлению миграцией должен исходить из недопустимости вмешательства государства в индивидуальное стремление человека к счастью. Как и в других областях регулирования, мы, как либералы, должны очень скептически относиться к способности бюрократии управлять феноменом, который во многом обусловлен такими структурными факторами, как глобализация, демографические изменения и технологические нарушения. Все, что может пойти не так при вмешательстве государства, пойдет, скорее всего, не так. Каждое вмешательство требует оправдания, которое перевешивает факт вмешательства. Честность перед избирателями по поводу эффективности регулирования, таким образом, будет ключевой либеральной ценностью в этой сфере.
3. Мы должны подчеркнуть тесную и положительную связь между торговлей, миграцией и глобализацией. Мы должны заявить, что они взаимозависимы, что одно невозможно без другого.
4. Мы не должны романтизировать миграцию как процесс, в котором все всегда выигрывают. Миграция порождает и проигравших. Но выигрыш выигрывших несопоставимо перекрывает проигрыш проигравших. Поэтому главный вопрос для либералов, пытающихся регулировать миграцию: как распространять огромные выгоды либерализованной миграции, чтобы польза была в том числе и для тех, кто проиграл?
5. Мы должны думать о дорожных картах, посредством которых миграция может быть шаг за шагом либерализована. Эти дорожные карты могут различаться в зависимости от контекста, но в их основу должен быть положен принцип индивидуального права на миграцию как форму адаптации и стремления к счастью. Талант распределяется поровну между людьми, доступ к новым возможностям ― нет. Если мы изменим последнее, у людей будет возможность стать более изобретательными и их миграция будет гораздо менее рискованной как для них, так и для принимающего общества. Предпосылкой для этого являются хорошо защищенные, надежные права и предсказуемая правовая среда для мигрантов. Если благодаря либеральному правозащитному иммиграционному законодательству, разъясняющему неизбежность и плюсы повышении социальной мобильности, общество начнет с доверием относиться к большинству иммигрантов, то оно, без сомнения, будет в состоянии абсорбировать масштабную и постоянную иммиграцию, которая может привести к культурному многообразии, но не к подрыву государственных институтов и структуры общества.
6. Мы должны с осторожностью относиться к обещаниям сохранить культурную и коллективную идентичность. Если и есть одна коллективная идентичность, которая может быть сохранена и продвигаться средствами политики, то это то, что немцы любят называть конституционным патриотизмом. Консенсус заключается в том, что безопасность, автономия, цель и принадлежность могут предлагаться конкретным набором институтов лучше, чем другими, и именно поэтому их стоит защищать и совершенствовать. По этой же причине западные страны привлекательны для мигрантов, так что для этого штамма коллективной идентичности иммиграция не представляет угрозы. Либералам с большой долей скептицизма (не враждебности!) надо относиться ко всем формам коллективной идентичности. Их отправной точкой должен быть нормативный и методологический индивидуализм. Скептицизм должен касаться и компетенции групп, полагающихся на некоторое понимание мультикультурализма. Когда коллективная идентичность неизбежна, можно добиться разнообразия, повысить социальную мобильность и качество институтов, которые позволят заложить основу такой идентичности.
Специалист в области миграции и географии населения, кандидат географических наук.
Вторая достаточно либеральная вещь, которая характеризует нашу миграционную политику, это то, что мигранты лишены социальной поддержки. Да, увы, они не могут в России получить пенсию, нормальную медицинскую помощь — не могут получить нормального спектра социальных услуг, но, с другой стороны, они приезжают, хорошо зная об этом. Они знают, куда едут. Да, либеральная позиция такова, что закон должен соблюдаться в отношении всех. Но соблюдается ли он в отношении самих российских граждан? Разве они на рынке труда полностью защищены? Это не так. Любого человека можно уволить, если захотеть. Так что социальная незащищенность иностранных мигрантов в России относительна ― хотя и несколько больше, чем незащищенность российских граждан.
В России существует безвизовый обмен со странами СНГ, при этом очень много раздается голосов о том, что он должен быть отменен. Такое решение принято не будет. Не из-за того, что мы так держимся за безвизовый обмен, не из-за того, что мы либеральны. Это следствие неоимперской политики России, что в данном случае хорошо.
Мы, к сожалению, не можем в миграционном плане действовать как передовые страны, такие как Канада и Австралия, которые принимают мигрантов на основе балльной системы, потому что не можем предоставить им современных рабочих мест, не можем заинтересовать специалистов, которые приедут в нашу страну и будут здесь работать. У нас пока, увы, совершенно иная экономика, и в этом смысле мы, скорее всего, страна третьего мира, развивающаяся страна. И по этой причине канадская система в нашей стране не заработает.
Что беспокоит, так это то, что постоянно в руководящих документах, которые готовятся российскими властями, видна потребность поруководить внутренней миграцией, переселением граждан России или поездками на работу из одного региона в другой. Это очень плохо, все подобные попытки государства вмешаться в область внутренней миграции нужно по мере возможности пресекать. В той же Концепции миграционной политики от 2012 года содержится набор мер в области управления внутренней миграцией. В нее, в частности, вписали привлечение населения на Дальний Восток, какие-то организационные меры и т.д. В результате создается иллюзия, что внутренней миграцией можно и нужно управлять. Что совсем не так. Мы с огромным трудом можем управлять международной миграцией, но внутренней миграцией управлять в России вообще невозможно, не говоря уже о вреде таких попыток.
Отсюда вытекает, что второе, о чем надо думать, это идентичность. Проблема идентичности вышла уже сегодня на первый план в Европе, мы это видим повсюду ― в Каталонии, Шотландии и других местах. Часто это никак не связано с мигрантами, а скорее с процессами европейской интеграции и процессами глобализации. У каждого современного человека есть одновременно несколько идентичностей. Есть житель города Москвы или Цюриха, житель какого-то кантона в Швейцарии, житель страны, в Европе это гражданин Евросоюза, и, наконец, какие-то люди считают себя гражданами мира. Все эти разные идентичности находятся всегда в каком-то очень хрупком балансе. Сейчас этот баланс во многих местах нарушился. Почему англичане проголосовали за Брэкзит, почему американцы избрали Трампа? Потому что протекают глобальные процессы разрушения и изменения идентичности. Миграция добавила, безусловно, остроты этой проблеме.
Владимир Мукомель правильно заметил: а что мы строим в России, какое государство и общество? Мы строим мононациональную страну? Мы строим политическую нацию, но какую? Если мы упадем в крайность православия, особого пути, исключительности, это будет катастрофа, причем для целостности самой России.
Вот, скажем, Смоленск ― средний областной город с населением менее 300 тыс. человек. И где все эти люди? Они живут и работают теперь в Москве, в Петербурге. В будущей России население соберется в сгустки вокруг городов-миллионников, между которыми останется полупустое пространство с медленно вымирающим населением, в основном пенсионерами или дачниками. При этом никакие мигранты там жить не будут. Мигранты едут в уже перенаселенные и недоразвитые крупные города, в мегаполисы. Там, внутри больших городов, возникают своеобразные гетто, где люди собираются по принципу бедности и общности происхождения.
Интеллектуальный вызов для России ― придумать, как жить, управлять и осваивать такую огромную территорию с таким небольшим населением. При этом маловероятно, что удастся привлечь достаточное количество мигрантов для решения этой задачи, какие бы либеральные условия для них мы ни создали.
Есть стойкое убеждение, что это слишком дорого. Президент Путин говорит, что мы никогда не будем закрывать границы, потому что это близкие нам народы. Народ при этом требует введения визового режима. Здесь позиции властей и народа не совпадают. Господствует циничный и прагматический подход, ведь чем люди бесправнее, тем проще ими управлять.
Это очень коррупционная сфера. Оборот теневых денег в этой сфере оценивается в сумму порядка 10 млрд долларов, что тоже очень тормозит необходимые реформы в миграционной сфере.
Теракты, которые прокатились по Западной Европе, достаточно сильно напугали российских руководителей, в результате было принято решение вернуть миграционные вопросы в Министерство внутренних дел. Как будто полиция может эффективно бороться с экстремистскими и террористическими проявлениями. На этих основах и строится наша миграционная политика, тогда как эффективная и либеральная миграционная политика заключается в том, что человек должен работать в России легально, он должен быть защищен в правах и прежде всего должен иметь доступ к правосудию.
Поставленный организаторами дискуссии вопрос о либеральном ответе на миграционный кризис и, шире, на миграционные процессы органично трансформировался в несколько связанных с этим вопросов: каково отношение либералов к миграции? что такое либеральный подход? какова должна быть миграционная политика либералов? как либералы могут разъяснить свою позицию обществу?
В ходе дискуссии ни у кого не возникло сомнений, что миграция ― в том числе и современная миграция ― не есть что-то экстраординарное, нарушающее естественное состояние вещей («Мы должны перестать думать о миграции как о чем-то кризисном» ― Ш. Шлегель). Миграционные потоки, неотъемлемый компонент глобализации, будут только усиливаться. Будущее сопряжено не только с ростом масштабов, но и с изменением форм миграции, изменением направлений потоков людей, появлением контингентов мигрантов, которые сегодня сложно предсказать. Надо воспринимать ее трезво, не ударяясь в алармизм, оценивая как ее плюсы, так и серьезные вызовы, которым либералы должны противопоставить свою позитивную программу. Экономические миграции ― феномен, который бессмысленно стремиться одолеть (равно как невозможно полностью прекратить вынужденные миграции). Стремясь избежать ловушки бедности, люди становятся более мобильными, и потому следует приветствовать добровольную миграцию ― не только как средство развития стран, но и как средство обретения человеком новых возможностей (Л. Кёлер).
Миграцию нельзя рассматривать вне внешнеполитического и экономического контекстов. Ограничение доступа мигрантов на рынок труда принимающими странами зависит не только от них, это вопрос соотношения сил, торга принимающих и посылающих стран. Принимающим странам, вероятно, придется пожертвовать некоторыми полномочиями по ограничению миграции (Ш. Шлегель).
И, конечно, миграция становится важным ресурсом сдерживания депопуляции и увеличения человеческого капитала, что справедливо и для России, и для Германии и ЕС (А. Вишневский, Л. Кёлер, Е. Гонтмахер, В. Рыжков).
Столь же единодушны были специалисты и в отношении принципов, на которых должна базироваться миграционная политика либералов. (Оговаривая разницу между политикой либералов и либеральной политикой, западные специалисты акцентировали внимание на политике либералов, тогда как российские ― на либеральной политике, отчасти оттого, что в России можно быть одновременно и либералом и мигрантофобом).
Либеральный подход ― ограничение регулирования, минимум регулирования («от запрещенного в принципе и разрешенного только в исключениях, к разрешенному в принципе и запрещенному только в исключительных случаях» ― Л. Кёлер).
Наши возможности регулирования миграции в принципе ограниченны, следует очень скептически относиться к возможностям управления («Миграционный процесс практически неуправляем» ― Е. Гонтмахер). Во-первых, из-за неспособности бюрократии управлять сложнейшим феноменом, обусловленным глобализацией, демографическими, технологическими процессами и иными факторами. Как афористически сформулировал Ш. Шлегель: «Все, что может пойти не так при вмешательстве государства, пойдет, скорее всего, не так». Во-вторых, вследствие сложностей стратификации различных категорий мигрантов «невозможно провести границу между причинами миграции. Чаще всего это сочетание политических, экономических и идеоалогических причин» (Л. Кёлер). Уповать на рестрикционные меры ― этически проблематично и практически бесполезно (Ш. Шлегель).
Среди российских специалистов не было единства по поводу оценки и артикуляции государственной миграционной политики. А. Вишневский настаивал, что выраженная, четко сформулированная политика отсутствует, тогда как другие полагают, что она все же есть.
Миграционная политика российских властей расценивалась как во многом вынужденная («рабочая сила нужна, и чем она дешевле, тем лучше», навести в ней порядок не в интересах России ― Ж. Зайончковская), как либеральная (Н. Мкртчан), как «абсолютное воплощение либерализма» («в смысле, что мы вообще ничего не регулируем» ― В. Рыжков), как либерально артикулированная в концептуальных документах, но в законодательных новациях и инструментах далеко не либеральная (В. Поставнин). Отмечалось, что либерализм российской миграционной политики не только следствие достаточно простого доступа на рынок труда и отсутствия социальной поддержки мигрантов, но и отчасти ее неоимперской политики, строящейся на безвизовых отношениях со странами СНГ (Н. Мкртчан).
Оборотной стороной «либерализма» российской миграционной политики, в отличие от германской, опирающейся на правовое государство, верховенство закона, является отсутствие цивилизованных отношений между государством, обществом, с одной стороны, и мигрантами ― с другой («все очень либерально, но это не означает, что цивилизованно» ― В. Рыжков). Необходимость легализации трудовых мигрантов не подвергалась сомнению, сомнения высказывались относительно возможности легализации в современных условиях («легализовать ее и политически не хотелось бы [властям], и экономически» ― В. Поставнин).
Российские участники обозначили еще одну важную проблему, специфическую для России, ― неопределенность генерального курса развития страны. Будет ли она развиваться в направлении, более близком либералам, с опорой на европейские ценности, права человека или пойдет альтернативным путем, с опорой на русско-православное культурное ядро ― В. Мукомель. (Как образно сформулировал Е. Гонтмахер, «упадем в крайность православия, особого пути, исключительности».) Борьба между двумя видениями будущего сказывается и в реализации миграционной политики, в подходах к ответу на вызовы, которые связаны с притоком мигрантов.
Говоря о позитивных аспектах миграции, нельзя впадать в крайность: не следует романтизировать миграцию как процесс, в котором все и всегда выигрывают. В результате притока мигрантов всегда есть и проигравшие ― неквалифицированные работники, люди, позиции которых неустойчивы на рынке труда. Задача либералов не только разъяснить позитивные аспекты миграции, но и минимизировать потери тех, кто объективно проигрывает от притока мигрантов (Л. Кёлер, Ш. Шлегель).
Либеральное иммиграционное законодательство не может не быть правозащитным: хорошо защищенные, надежные права и предсказуемая правовая среда для мигрантов ― его неотъемлемые компоненты. При этом никем не подвергалась сомнению необходимость дифференцированного подхода к разным контингентам мигрантов и соответствующего селективного целеполагания миграционной политики. Упоминавшаяся рядом участников дискуссии канадская система подбора мигрантов на основе балльной системы одобрялась всеми. Но в отличие от немецких коллег, считавших ее адаптацию к условиям Германии одним из эффективных инструментов либеральной миграционной политики, российские коллеги были настроены скептически, полагая, что российская социальная и экономическая среда не столь привлекательна, чтобы получать извне качественную рабочую силу.
Российские эксперты полагают, что ключевой вызов ― социальная исключенность мигрантов. Единственный выход ― в разумной политике адаптации и интеграции мигрантов, предполагающей серьезные преобразования ответственных за это институтов (А. Вишневский, В. Мукомель), а также в разработке соответствующих масштабных программ (А. Вишневский). Проблема институтов специально не обсуждалась, но, признаваемая участниками дискуссии как неотъемлемый элемент миграционной политики, постоянно витала в воздухе, фраза «институты имеют значение» звучала неоднократно.
Миграционное давление напрягает и настораживает население развитых стран, их общественное мнение становится все более антимигрантским. Рост популистских программ и партий, всплеск антимиграционной идеологии сопряжены не только с большим притоком мигрантов (Л. Кёлер), но и с потенциальной миграцией, обусловленной бедностью и отсутствием перспектив в странах-донорах (А. Вишневский). При этом стабильно значимая часть населения всегда считает иммиграцию слишком высокой, независимо от ее уровня (Ш. Шлегель).
Налицо сдвиг политического спектра во многих странах мира вправо. Немецкие коллеги фиксировали и перехват антимигрантской повестки со стороны левых; аналогичный процесс имеет место и в России. Ключевая проблема, требующая решения: «либералы за, а народ против» (А. Вишневский).
Какой политики должны придерживаться либералы, чтобы, с одной стороны, не изменяя своим принципам, разъяснять свою позицию, с другой ― не растерять электорат? Значимость этого вопроса различна для российских либералов, электорат которых, по оценке В. Рыжкова, составляет около 3% и которым в этом смысле нечего терять, и для европейских либералов, которым, напротив, терять есть что.
По этой причине не столь свободные, как российские коллеги, в выборе месседжей в общественных дискуссиях, западные специалисты старались сформулировать основные принципы общения с массами так: апелляция к спокойствию и трезвости в общении с людьми, когда речь идет о миграции; реализм и честность перед избирателями по поводу эффективности регулирования миграции; признание проблем, генерируемых миграцией; внятное разъяснение своей позиции («наши ответы часто очень умны, но мы не всегда можем их хорошо объяснить» ― Ш. Шлегель).
Политики часто вынуждены идти на поводу у общественного мнения, которое далеко от идеалов либерализма. Немецким коллегам выход видится не только в четкой артикуляции своей позиции, разъяснении того, что происходит, но и, с оглядкой на электорат, в перенесении акцента на трудовую миграцию, настороженность к которой в обществе не столь велика («мы гораздо более открыты для рабочей миграции» ― Л. Кёлер).
Временами российские и немецкие коллеги вкладывали разный смысл в одни и те же понятия. Российские специалисты, говоря о либерализации рынка труда для мигрантов, имели в виду упрощение процедур доступа (В. Поставнин), тогда как немецкие ― уточнение критериев для таких процедур (Л. Кёлер).
Далеко не очевидно, что российские и западные коллеги всегда точно понимали друг друга. Для вторых могли быть непонятны многочисленные пассажи российских участников, сетовавших на пропасть между законодательством и правоприменением, причитания по поводу попыток регулирования внутренних миграций, коррупции. Со своей стороны, российские специалисты никак не отреагировали на ключевой тезис о «конституционном патриотизме», рассматриваемом как главный критерий интеграции мигрантов и трансформации их идентичности в нужном направлении.
Дискуссия об интеграции и идентичности должна быть продолжена. Возможно, потому, что немецкие коллеги сдержанно отнеслись к возможности сохранения ― и вообще существования ― коллективной идентичности. Они допускали, с оговорками, коллективную идентичность, в качестве которой им виделся «конституционный патриотизм» (Ш. Шлегель). «Конституционный патриотизм» либералов, как антитеза «доминирующей культуры», являющейся знаменем консерваторов, рассматривался и как критерий интеграции. (Ю. фон Фрайтаг-Лорингвен: «...наш главный вопрос интеграции ― это Конституция. И если вы понимаете, защищаете идеи Конституции, тогда вы интегрированы».) Во-первых, российская либеральная мысль более снисходительна к коллективной идентичности, в российском дискурсе ― «гражданской идентичности», не имеющей четких критериев. Во-вторых, противостояние «конституционного патриотизма» и «доминирующей культуры» в ФРГ (сходное с российской дихотомией либералов и консерваторов) не увязывалось с представлением российских коллег о недостаточности приверженности Конституции ни для идентификации индивидуума с принимающим обществом, ни как критерия завершения процесса интеграции.
Вопросы миграции неоднократно всплывали в обсуждениях, касающихся глобализации, экономического развития, национализма и роста ксенофобии (см. соответствующие разделы книги), и настоящая дискуссия в очередной раз подтвердила тесную сопряженность всех этих проблем.
и следите за обновлениями!
Являются ли права человека универсальными? Если да, то почему?
Учитывая, что тема защиты прав человека является центральной для либералов, насколько она должна влиять на внешнюю, например, или экономическую политику?
Деятельности таких важных институтов по защите прав человека, как Совет Европы или ОБСЕ, активно мешают страны, утверждающие, что права человека являются исключительно их внутренним делом и не должны выноситься на рассмотрение международного сообщества. Как либералам реагировать на это?
Нужны ли нам новые структуры и концепции, защищающие права человека, обеспечивающие их соблюдение, пресекающие злоупотребления и наказывающие нарушителей?
Как либералам защитить и расширить права человека перед лицом острых вызовов XXI века? Участникам дискуссии предстояло ответить на все эти вопросы.
Когда одному из основателей и вдохновителей «Мемориала» Арсению Рогинскому жаловались: «Как можно работать, когда результаты твоей работы почти не видны? Это как бег на месте — тратишь много усилий, а в результате свободы вокруг становится даже меньше, чем было?» — он в ответ всегда говорил: «Трудное время как раз правильное время для того, чтобы ставить трудные вопросы и их обсуждать. Трудное время, когда мало что получается практически, очень хорошее время для интеллектуального разговора».
Бывший руководитель московского бюро Фонда Фридриха Наумана (с 1993 по 2009 годы)
Доктрина прав человека основана на теориях европейских мыслителей и философов. Прежде всего, необходимо в этой связи упомянуть Томаса Гоббса и Джона Локка, считавших, что каждый человек имеет врожденные, неотъемлемые (естественные) права и что политическая власть государства должна контролироваться и ограничиваться обществом. Не забудем также Жан-Жака Руссо с его идеей демократии и принципом равенства, Монтескье с его теорией разделения властей и, наконец, Иммануила Канта с его учением о естественном праве.
Таким образом, основу доктрины прав человека составили исторически развившиеся в Европе идеи гуманизма и просвещения. Именно они внесли решающий вклад в Великую французскую революцию, в преодоление абсолютизма и развитие концепции основных прав граждан. Это движение усилилось, когда по другую сторону Атлантики отцы-основатели Соединенных Штатов Америки, провозгласив независимость в 1776 году и приняв конституцию 1787 года, перевели идеи европейского Просвещения в политическую реальность. В Европе эту нишу занял политический либерализм, который нашел свое выражение в фундаментальных идеях Джона Стюарта Милля и размышлениях о демократии и равенстве Алексиса де Токвиля. Наконец, надо назвать Карла Маркса, который в начале столетия индустриальной революции и капитализма стал пионером провозглашения и защиты социальных прав человека.
В конституциях, которые были приняты по всей Европе в XIX и начале XX века, утверждались основополагающие права человека. Однако, несмотря на это, после Первой мировой войны в большей части Европы с появлением фашизма и большевизма массовое беззаконие стало распространенным явлением. Наряду с Советским Союзом это утверждение, конечно, относится к Германии Третьего рейха. Этот исторический фон объясняет, почему после чудовищных преступлений во время Второй мировой войны убеждение в важности прав человека стало играть все более значимую роль в Западной Европе. Это привело к созданию в 1949 году Совета Европы ― важнейшего международного института защиты прав человека ― и к принятию в 1950 году Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
При этом в обществах Западной Европы процесс осознания важности прав человека шел довольно медленно. В авторитарных общественных структурах, особенно в Германии, долго сохранялись иерархические образцы мышления и поведения. Немцы далеко не сразу осознали то обстоятельство, что они, как граждане своего государства, имеют права, в том числе и право на участие в управлении этим самым государством. Выступающий был этому свидетелем в бытность свою подростком. В школе он и его сверстники узнали, что Основной закон Германии гарантирует фундаментальные права человека, прежде всего права, защищающие граждан от государства, гражданские свободы, а также права на участие каждого индивида в демократическом процессе, но эти знания носили тогда довольно абстрактный характер. Чтобы понять и усвоить, что означают эти основные права, что, собственно, речь в Конституции в конечном счете идет о свободе каждого отдельного гражданина, нам требовалась пища для размышлений в виде практических импульсов. Как всегда бывает в политике, именно конкретные события формировали наше сознание относительно защиты прав человека.
Назову лишь некоторые из этих импульсов, некоторые из этих событий: создание новой немецкой армии, введение призыва на военную службу, так называемое дело Spiegel (в 1962 году государство попыталось воздействовать на политический журнал, чьи статьи не понравились госчиновникам), протестное движение против войны во Вьетнаме (в игру вступила международная политика) или протесты против ядерной энергетики, в частности против строительства в Германии завода по переработке отработанного ядерного топлива (здесь проявилась забота об окружающей среде). Как представляется, 1968 год в целом, с его массовыми студенческими движениями, в значительной степени способствовал формированию правового сознания у немцев.
Свою лепту внес Советский Союз с его тоталитарной сталинской, а позднее авторитарной системой правления — в том числе и его существование поставило Запад перед необходимостью утверждения гражданских свобод. После распада СССР события на международной арене вновь актуализировали необходимость сознательного подхода к правам человека и понимания их важности: балканские войны, конфликты в странах Африки и Азии, столкновения между Израилем и Палестиной, между руководством Турции и курдами, жестокое подавление оппозиции в Сирии и, наконец, появление новых авторитарных структур в современной России. Last but not least, сюда же относятся и проблемы беженцев и мигрантов, которые снова подчеркивают значимость соблюдения прав человека.
Растущее осознание важности прав человека сопровождалось в Европе активными дискуссиями (то, что называется дискурсом о правах человека), которые всегда приводили и до сих пор приводят к серьезным столкновениям.
Причина этого кроется, во-первых, в том, что права человека являются предметом юридического характера и поэтому толкование законов имеет здесь большое значение. Однако нет такой инстанции, которая бы, обладая неоспоримым авторитетом и претендуя на универсальность, могла определить, как в каждом отдельном случае следует понимать права человека. Во-вторых, интенсивность и острота этого дискурса обусловлены тем, что речь идет не только о чисто правовых вопросах, но и почти всегда о политике. Снова и снова звучат упреки в адрес тех государств, которые настаивают на соблюдении прав человека. Их якобы интересует не соблюдение прав человека в других странах, а реализация своих политических целей. «Политическая инструментализация прав человека» ― так звучит этот упрек. Именно так он предъявляется и российской властью, Кремлем, в отношении Запада. Они говорят, что Запад якобы использует права человека не в интересах людей, а лишь для получения политического преимущества на международной арене. Недалеко ушли от этой темы и упреки в двойных стандартах.
Инструментализацию прав человека больше всего критикуют тогда, когда правозащитный дискурс легитимирует военное вмешательство, если, например, речь идет о так называемой обязанности защищать, responsibility to protect. В соответствии с этим принципом международное сообщество несет если не юридическую, то по крайней мере моральную ответственность за предотвращение массовых и грубых нарушений прав человека в любой стране мира ― даже с использованием при необходимости военной силы, если правительство этой страны не выполняет свою функцию по защите прав своих собственных граждан.
Дискуссия об «обязанности защищать» в конечном счете стала продолжением дискуссии о «гуманитарной интервенции» в случае геноцида, военных преступлений и других преступлений против человечности; обе касаются вопроса об обоснованности военного вмешательства. Но обсуждение принципа обязанности по защите изменило дискурс о мотивации гуманитарного использования военной силы: в случае грубых нарушений прав человека уже нет необходимости указывать причины для вмешательства, а вот отказ от вмешательства должен быть обоснован.
Это развитие, как считают некоторые, способствует упрощенному морализму. Задается вопрос: разве такие однозначные решения не игнорируют дилеммы гуманитарного вмешательства, вместо того чтобы отражать эти дилеммы во всей их сложности с этических позиций при принятии решений? Именно здесь от европейских представителей требуется политико-этическая оценка, которая оправдывает сложную проблему использования военной силы для защиты прав человека.
Те же критики ссылаются на тот факт, что гуманитарное вмешательство вряд ли может быть успешным, если используется только в качестве элементарной краткосрочной терапии. В конце концов, права человека нарушаются в контексте, который требует устойчивого и долгосрочного воздействия. Между тем в европейском дискурсе об «обязанности защищать» ведутся разговоры о так называемой косвенной ответственности, важность которой повышается, если необходима интервенция в ситуации с долгосрочной нестабильностью, как это часто бывает после военных вмешательств. В дискурсе об «обязанности защищать» этот термин все чаще обсуждается вместе с новым понятием об ответственности за «восстановление» (реконструкцию). В целом же концепция liberal peace building, связанная с «обязанностью защищать», все чаще воспринимается скептически ― отчасти потому, что она редко успешно работает на практике.
В настоящее время война в Сирии ясно демонстрирует проблематику как «обязанности защищать», так и ответственности за последствия ее реализации. Представляется, что в этой войне, которую режим Асада вместе с Россией и Ираном ведет не только против так называемого исламского государства, но и против гражданского населения из числа суннитов, каждый день совершались и совершаются серьезные нарушения прав человека. Однако европейцы до сих пор не могут достигнуть согласия в вопросе о том, как им на это реагировать, хотя в своих внешнеполитических заявлениях ЕС регулярно ссылается на международную «обязанность защищать» и соответствующие резолюции Европейского парламента.
Очевидно, что «обязанность защищать» пока слабо определена и плохо работает. Верно и то, что идея гуманитарного вмешательства осталась западным проектом и за пределами Европы, Северной Америки и Австралии нашла мало последователей. Для России, Китая и подавляющего большинства членов ООН высшими принципами международного права остаются невмешательство во внутренние дела и неприкосновенность границ. Тот факт, что этот принцип оправдывает даже самые серьезные нарушения прав человека, не берется ими во внимание.
Пока существуют эти разногласия, «обязанность защищать» останется неисполнимым обещанием. Только если автократии, задающие сегодня тон в глобальной политике, то есть Россия, Китай, а теперь и Турция, проведут либерализацию изнутри и если, что обязательно следует добавить, Запад не подпадет под влияние националистов, либеральный интернационализм и идея гуманитарной интервенции получат новый шанс.
Последнее замечание: критика правозащитного дискурса доносится из разных углов, поскольку она, как правило, питается из многих источников. Многие участники этого дискурса выступают с позиции, которую можно назвать постколониальной критикой. Они говорят: «Что касается прав человека, вы укрепляете с их помощью иерархические отношения между Европой и другими регионами мира». Другими словами, они рассматривают правозащитный дискурс на фоне колониальной истории и постколониального настоящего. Сторонники этой точки зрения выдвигают обвинение в евроцентризме в отношении создания доктрины прав человека. В этом контексте они ссылаются на то, что концепция прав человека уходит своими корнями в европейскую философию. При этом философов Просвещения, в которых мы сами не сомневаемся, они подвергают критической оценке. По их мнению, эти философы не только продвигали проект эмансипации, но и в конечном счете заложили основы для создания доминантной культуры «белого господства». Кульминационной точкой критики правозащитного дискурса являются обвинения в том, что правозащитники предположительно знают, насколько хороши для них иностранцы и чужие культуры. Эти обвинения, основанные на постколониальной критике, кстати, встречаются и в России, где утверждается, что правозащитное мышление навязано России Западом.
Наконец, о проблеме, которая, если можно так сказать, встряхнула современную Европу. Это проблема беженцев, переселенцев и мигрантов. Ответственность за то, что эта проблема стала сегодня первостепенной и останется таковой надолго, несут многие игроки, действующие на международной арене, в том числе и Россия.
Здесь возникают сложные вопросы, особенно в отношении прав человека. И политика снова играет здесь важную роль. Кто имеет право на убежище? Где начинается это право, где оно заканчивается? Что означает «политическое преследование», которое в соответствии с Конституцией Германии оправдывает получение права на убежище? На что могут претендовать беженцы в стране приема, особенно беженцы из зон военных конфликтов? Где начинается действие защиты, предоставляемой Конституцией Германии? Где и когда вступает в действие Женевская конвенция о беженцах? Что означает, когда Федеральное ведомство по миграции заявляет: чрезвычайные ситуации, такие как нищета, гражданские войны, стихийные бедствия или отсутствие перспектив, не могут служить основанием для предоставления убежища в соответствии с Основным законом Германии (ст. 16a Конституции)? Что будет с теми, кто ищет у нас защиты именно по этим причинам? И общий вопрос: соответствует ли сегодняшнему времени Женевская конвенция о статусе беженцев 1951 года?
Как известно, миграционный вопрос разделил Европу. Государства Центральной Европы воспринимают стремление ЕС к солидарности в приеме беженцев как необоснованное покушение на их суверенитет. В Западной Европе единого мнения по этому вопросу не существует. Внутри всех европейских государств дела обстоят похоже: мнения людей явно противоположны и способны раскалывать общества. Проблема беженцев уже привела к формированию авторитарных, популистских партий во многих европейских странах, а в некоторых они даже получили политическую власть. Даже в Германии проблема беженцев и переселенцев токсична. Нам всем придется еще долго жить с этими вопросами и потому, что поток беженцев не иссякнет, пока не исчезнут причины, которые заставляют людей искать убежище. Да, часто мы слышим, что надо бороться с причинами бегства. Но это, как говорят немцы, примитивный и дешевый ответ, потому что в конечном счете это требование означает: давайте позаботимся о том, чтобы беженцы могли жить достойно у себя в стране, а мы все знаем, что это если и возможно, то только в долгосрочной перспективе, но ни в коем случае не сейчас.
И последнее ― о России и ее правительстве. Представляется, что российская власть с удовлетворением наблюдает за кризисом беженцев, который поразил Европу. Возникшая в результате дестабилизация Европы, похоже, входит в расчеты Кремля. На Западе даже бытует мнение, что причины резкого роста притока беженцев в Европу в 2016 году надо искать в России. В любом случае очевидно, что участие российских вооруженных сил в сирийской войне сыграло не последнюю роль в бегстве многих людей из Сирии и потом в дестабилизации единой Европы.
Директор Сахаровского центра, член Московской Хельсинской группы
Следовательно, не только раса или пол, но и гражданство не могут быть причиной отсутствия или ограничения прав. В противном случае это не права человека, а права гражданина или резидента определенной территории. Следовательно, права человека как концепция по определению предполагают универсальность. При этом сегодня принцип универсальности прав человека, их перечень и формулировки являются предметом острой дискуссии. Даже если права человека как общая концепция универсальны, то могут ли в той же степени быть универсальными их конкретный перечень, формулировки и толкования? Есть три основные точки спора: государственный суверенитет, религия и моральные/культурные нормы.
Противопоставление прав человека государственному суверенитету ― тема, лежащая на поверхности. Понятие государственного суверенитета возникло в эпоху становления абсолютных монархий, провозглашавших почти безграничную власть монарха над подданными. Права человека формулировались в XVIII веке как гражданский ответ деспотизму. Самые страшные преступления против человечности в XX веке были совершены непосредственно правящими режимами. Именно к этим преступлениям апеллирует преамбула Всеобщей декларация прав человека как к злу, которое не должно более повториться. Дискуссия возможна только по вопросу о степени ограничения суверенитета. Принципиальное преимущество прав человека перед суверенитетом диктуется как их универсальностью, так и драматической историей борьбы человечества за соблюдение прав.
При этом угроза принципу универсальности прав человека в их споре с принципом суверенитета исходит не только от авторитарных правителей, чьи заявления о недопустимом «вмешательстве во внутренние дела под предлогом защиты прав человека» насквозь лицемерны, но и в определенной мере от таких демократических стран, как США или Великобритания, которые отстаивают преимущество национального права над международным.
В то же время государственный суверенитет — это не только принцип «невмешательства во внутренние дела», но и вопросы «национальной безопасности». Например, Европейская конвенция по правам человека позволяет до некоторой степени ограничивать реализацию части прав человека ради защиты безопасности. Но, даже предположив, что универсальность прав человека признается всеми, следует задать вопрос, существуют ли универсальные критерии «национальной безопасности» и готовы ли государства, отдающие на международный суд вопрос о соблюдении прав человека, поступить так же с оценкой угроз безопасности. Следовательно, утверждение об универсальности прав человека прямо зависит от общего консенсуса в вопросах мира и международной безопасности. Данное обстоятельство лишний раз подтверждает точность тезисов нобелевской лекции Сахарова о том, что мир, прогресс и права человека ― цели неразрывно связанные, и нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими.
Религия и моральные нормы тесно связаны, но лучше рассмотреть их по отдельности. Права человека формулировались в рамках христианской культуры, даже если авторы формулировок были людьми неверующими. Но как быть, например, мусульманам? Кроме того, понимание прав человека все время развивается и расширяется, и это происходит в большинстве своем в рамках безрелигиозного гуманизма. Как универсальность этих расширяющихся редакций прав человека могут принимать люди религиозные? Одновременно с этим права человека осмысливаются и получают особое обоснование в рамках религиозных доктрин, в первую очередь католицизма.
Многие социологи и философы полагают, что сегодня мы наблюдаем наступление эпохи постсекуляризма. Дело не в религиозном возрождении. Одни исследователи его фиксируют, другие ― нет, тем не менее голос представителей религий звучит все громче. Проблема в другом. В условиях постмодернизма традиционный секуляризм подвергается деконструкции ― как и гуманизм, атеизм и любые другие идеи, претендующие на статус истины. Не могут избежать этой участи и универсальные права человека. В этой ситуации договорной характер прав человека усиливается. Поэтому общая дискуссия о понимании прав человека с участием представителей религий становится и остро необходимой, и неизбежной.
Кроме того, активно развивающаяся сегодня версия прав человека ориентирована на моральные нормы жителя мегаполиса Западной Европы или Северной Америки. Тренды в области развития прав человека, присущие Западу, как бы автоматически становятся универсальными для всего остального мира. В результате в других регионах они нередко не воспринимаются как способствующие защищенности человека и его прав, а ощущаются как разрушающие традиционный социальный уклад, увеличивающие чувство небезопасности и нестабильности. Так же и с вопросами национальной безопасности, когда, например, ЕКПЧ позволяет ограничивать реализацию отдельных прав по соображениям защиты морали. Такие инструменты важны, но их пределы и механизмы также предмет обсуждения. Таким образом, концепция и содержание прав человека представляются сегодня полем для новой дискуссии.
Еще более сложен вопрос о месте, которое права человека занимают в международной политике. Если мы отстаиваем универсальность этих прав и вслед за Сахаровым считаем, что мир, прогресс и права человека взаимосвязаны, то соблюдение прав человека должно быть фундаментальным основанием и базовой целью для демократических стран. Однако, когда речь заходит о конкретике, становится очевидно, что выработать один правильный подход невозможно. В какой мере демократические страны должны жертвовать собственным экономическим развитием ради защиты прав человека в мире? Всегда ли правильно жестко отстаивать права человека, когда речь идет о вопросах безопасности? Стоит ли требовать от КНДР, кроме остановки ядерной программы, еще и изменения политики в области прав человека в одном пакете? Едва ли это здраво и реалистично.
В то же время существует безусловно необходимый стратегический подход. Он сформулирован Сахаровым в статье «Ядерная энергетика и свобода Запада». Сахаров считал, что западные страны не должны находиться в экономической зависимости от авторитарных государств, располагающих энергетическими ресурсами. Для решения этой проблемы он предлагал развивать безопасную ядерную энергетику. Современные экологи вряд ли согласятся с таким предложением. Однако это не отменяет его главной идеи: демократические страны должны использовать свое преимущество в сфере научно-технического прогресса (существующее благодаря интеллектуальной свободе) для создания экономики, независимой от ресурсных автократий.
Кроме прямого следствия ― свободы от политического давления со стороны автократий ― это позволило бы отказаться от существующей практики двойных стандартов, когда международная политика в области прав человека в отношении конкретных государств различается в зависимости не только от соблюдения их тем или иным государством, но и от роли, которую эти государства играют в экономике демократических стран. Сравним, например, степень критичности Запада в отношении нарушения прав человека в Иране и в Саудовской Аравии.
Наконец, существующая сегодня система международных институтов, прямая задача которых гарантировать соблюдение прав человека (в первую очередь ООН и Совет Европы), находится в плачевном состоянии. Очевидна диспропорция между количеством и качеством международных документов, регулирующих соблюдение прав человека, и действенностью механизмов, призванных их защищать. Прекрасных конвенций все больше, но заставить конкретную страну действительно соблюдать права человека остается делом крайне трудным и часто невозможным. Я убежден, что вина за это лежит на демократических странах.
Одновременно произошла бюрократизация международных институтов. Защита прав человека инструментализировалась, и насущные задачи нередко тонут в бесконечных согласованиях документов, подготовке отчетов и рекомендаций, которые потом полностью или по большей части не воплощаются в жизнь, повторяясь из года в год.
Следует также признать, что концепция вовлечения недемократических стран в демократию не работает ― ни через экономику (Китай), ни через политику (членство стран региона бывшего СССР в Совете Европы). Не работает в первую очередь без понимания ответственности, которую несут вовлекающие демократические страны. Права человека стоят дорого. Так, Россия нуждалась в массированной экономической помощи Запада даже не в первые годы, а в первые месяцы своего существования после августа 1991 года. Но ее не поступило, а ограниченная поддержка, которую Россия получила впоследствии, была, возможно, даже не полезной, а вредной.
В результате у государств — нарушителей прав человека складывается впечатление, что они могут подписать любой документ и симулировать его исполнение. В итоге демократические государства попадают в очень неприятные ловушки. Следует ли наконец начать твердо и последовательно требовать от России соблюдения прав человека и, поскольку за этим с большой вероятностью последует выход или замораживание членства в Совете Европы, в результате лишить российских граждан доступа к ЕСПЧ или лучше продолжать профанировать смысл этой международной организации как гаранта соблюдения прав человека ради сравнительно небольшого ограничительного эффекта, который этот орган играет для несправедливого российского правосудия? Едва ли сегодня тут есть хорошие либеральные решения.
Однако очевидно одно: начинать нужно с самых близких рубежей. Пока внутри Европейского союза возможен откат от демократии и соблюдения прав человека (имеется в виду Венгрия и Польша), пытаться развязать узел неэффективности Совета Европы и тем более ООН в отношении недемократических стран за пределами ЕС вряд ли будет возможно.
Сегодня наблюдается кризис прав человека и на концептуальном уровне, и на уровне механизмов реализации и контроля. Однако у демократических стран и активистов прав человека нет выбора. Взаимосвязанность мировых проблем стала еще большей, чем она была 50 или 30 лет назад, и распространение прав человека является частью процесса глобализации. Трудности и диспропорции (вплоть до очевидной несправедливости) этого процесса неизбежны, но требуют решений. Закрыться Западу в своем благоустроенном доме не получится ― проблемы в третьих странах бумерангом вернутся назад. Это уже происходит в виде подъема популистских движений в странах Запада. Либералам есть над чем задуматься и есть что делать.
Правда, и сегодня у некоторых политиков-«реалистов», занимающихся внешнеполитическими вопросами, оно вызывает усмешку. Они цинично говорят: экономические отношения с этими странами для нас важнее прав человека, и, так как вы все равно ничего в этом смысле не добьетесь, давайте лучше вообще оставим эти попытки.
Но это было бы равнозначно самоотречению, унизительному отказу от наших ценностных демократических убеждений, и поэтому Федеративная Республика ежедневно выступает в защиту прав человека повсюду в мире. Опыт прошлого свидетельствует: права человека подвергаются нарушениям со стороны тех, кто их страшится, кто хотел бы сохранить свою власть, хотел бы продлить свое пребывание в должности. Взгляните на Африку ― сколько деспотов насильственно продлевают там пребывание у власти. В качестве объяснения и оправдания они чаще всего говорят о «культурных особенностях»: так, как у вас, мы не можем, это западные, чуждые для нас, ценности. Однако за такими отговорками скрываются жестокие и корыстные намерения в любом случае сохранить власть, и ничего более.
Говоря о России, хотелось бы выделить только одну тему, которая дает повод для большого беспокойства. Это антитеррористическое и антиэкстремистское законодательство, или тенденция криминализации политических оппонентов. Подобное же беспокойство вызывают и новые законы о полиции в Германии, которые препятствуют политической деятельности, ограничивают основные элементы свободного общества. Сколь много, например, зависит от свободы выражения мнений. На ней в том числе основывается борьба с коррупцией, она обеспечивает честные выборы, без нее у оппозиции не будет равных шансов с властью. Ограничивается также право на демонстрации. С этими новыми законами, наступающими на основные свободы, необходимо бороться, что спикер и его единомышленники и делают, направив жалобу в Федеральный конституционный суд.
Надежду в него вселяет то, что раньше во всех подобных случаях удавалось добиться успеха. Спикер также отметил, что в России у него много друзей-либералов. Ему очень важно иметь возможность встречаться с ними и видеть, что гражданское общество живо, что существует другая, свободная, демократическая Россия. Об этом надо постоянно напоминать скептикам в Германии. Россия ― это не только то, что о ней пишут в германских газетах, не только нарушения властями прав человека. Впрочем, то же самое можно сказать обо всех государствах мира. Никто в мире не хочет, чтобы его подвергали пыткам. Никто не хочет быть брошенным в тюрьму из-за своих политических убеждений.
Говорят, что Судан не готов для утверждения прав человека или что у России другая традиция, что обе эти страны не знают демократии и якобы не готовы принять права человека. Это абсолютно циничная позиция. Везде есть люди, которые хотят быть свободными. Свобода живет в нас самих, и никто не может у нас ее отобрать. Многие в России готовы рисковать ради личной и общей свободы. Конечно, от свободы можно отказаться, поэтому так важно привить молодым людям вкус свободы, помочь осознать, насколько она важна.
И еще замечание. Генеральная Ассамблея ООН в 1998 году единогласно приняла «декларацию о защите правозащитников». Российский закон о так называемых НКО ― «иностранных агентах» прямо противоречит этой декларации, в которой, в частности, говорится, что права человека будут обеспечены только в том случае, если люди и их объединения смогут свободно указывать на нарушения прав человека и не будут преследоваться за это. В Декларации также говорится, что НКО могут свободно получать финансирование из-за рубежа. Германия продвинула эту декларацию через Генеральную Ассамблею вместе с ЮАР и Польшей — государством, которое стало свободным в Восточной Европе, и новым демократическим режимом в Южной Африке, возникшим в результате борьбы против апартеида. Это была столь мощная инициатива, что Генеральная Ассамблея согласилась с нашим предложением.
Вы можете сказать, что все это только бумага, но эта бумага важна уже потому, что на нее можно ссылаться и утверждать, что теперь люди, выступающие за соблюдение прав человека, больше не одиноки. На основе этой декларации в повестку дня регулярных заседаний Совета ООН по правам человека включен вопрос о нарушениях прав правозащитников, ежегодно публикуется доклад ООН о положении правозащитников в мире.
Даже если мы не можем немедленно изменить к лучшему ситуацию с правами человека, мы способны показать, что знаем о ней и принимаем ее всерьез. Надо продолжать работать в этом направлении, не ссылаясь на безрезультативность наших действий. На самом деле нам вновь и вновь удается добиваться существенных успехов ― в интересах как отдельных людей, так и целых государств. Без этих достижений результаты соблюдения Всеобщей декларации прав человека спустя 70 лет после ее принятия выглядели бы совершенно иначе.
Сегодня в номерах немецких гостиниц на ночном столике, как правило, лежит Библия. Amnesty International предложила выкладывать там небольшую брошюру с текстом Всеобщей декларации прав человека. Она того достойна.
Можно сказать, что Германия не является полностью суверенным государством. Действительно, в очень многих сферах мы в значительной степени отказались от своего суверенитета в пользу союза государств, который называется ЕС, в пользу единой Европы. Существуют цели более высокого порядка, чем суверенитет. Он имеет свои пределы, когда речь идет о фундаментальных правах человека. Нет ничего, что можно было бы упростить или упустить в этой сфере. На войне заповедь «не убий», возможно, бывает трудно соблюдать, тем не менее основополагающим принципом человеческого общежития остается именно этот принцип: не убий.
В первую очередь, это ослабление защиты прав человека под предлогом борьбы за безопасность. Об этом, собственно, и написана книга одного из участников дискуссии г-на Баума «Спасти права граждан». В основном процесс начался после терактов 11 сентября 2001 года в США, но продолжается до сих пор во многих странах и Запада и Востока. Эту проблему хорошо понимает гражданское общество, и в качестве примера его реакции можно сослаться на Венскую декларацию, принятую в декабре 2017 года международной платформой «Гражданская солидарность» (Civic Solidarity Platform), которая каждый год выбирает одну важнейшую тему и предлагает ее главам государств в рамках ОБСЕ. В прошлом году ежегодная декларация гражданского общества была посвящена тому, чтобы меры безопасности не подавляли права человека в ходе борьбы с терроризмом и с так называемым насильственным экстремизмом (эти понятия постоянно расширяются), а также в ходе «кризиса беженцев».
Вторая угроза ― суверенитет государства против прав человека и тезис о недопустимости «вмешательства во внутренние дела». Этот аргумент использовался с самого начала существования международной системы прав человека, но сейчас он продвигается с огромной силой, и не только в странах бывшего советского региона или государствах Азии и Африки, но и в США в рамках политики Трампа, в некоторых странах Евросоюза под предлогом борьбы против Брюсселя за национальный суверенитет.
Третье ― так называемый культурный релятивизм. Это явление тоже существовало всегда, но раньше о нем говорили главным образом диктаторы в странах Азии и Африки, ссылавшиеся на то, что у них якобы имеются культурные особенности и поэтому нельзя навязывать чуждые им культурные ценности Запада. Именно это происходит сегодня в России, когда власти говорят о «традиционных ценностях», это же происходит в Польше, Венгрии, даже в Соединенных Штатах, где многие оправдывают пытки или смертную казнь, потому что это якобы часть национальной американской традиции.
Названные три угрозы правам человека ― основные, глобальные, но есть еще один важный фактор. Это общее снижение авторитета тех стран, которые считались золотым стандартом, или чемпионами, в области прав человека. Их уважали, они имели право обоснованно критиковать другие страны и ставить неудобные вопросы перед их правительствами. Так это воспринималось нами в закрытых обществах, так это воспринималось многими в свободном мире. Сегодня авторитет этих стран-лидеров значительно упал и аргумент о двойных стандартах и об использовании прав человека для достижения политических целей используется автократическими лидерами более успешно, потому что в самих бывших странах-чемпионах на Западе ухудшилась ситуация с правами человека.
Отказ от двойных стандартов действительно очень важен. Не на словах, а на деле должны быть применены меры воздействия к нарушителям из числа демократических стран ― например, к правительствам Венгрии и Польши — за то, что они делают со своей судебной системой, избирательной системой, гражданским обществом, независимыми СМИ. У Европейского союза есть соответствующие инструменты, но, чтобы их применять, требуется политическая воля.
Перед участниками дискуссии был поставлен вопрос, нужны ли новые концепции в области прав человека. На взгляд спикера, никаких новых концепций не нужно, но необходимо постоянно утверждать приоритет прав человека во внешней политике государств и в сфере международного сотрудничества. В последние годы права человека как ключевая, высшая ценность в значительной степени перестали быть приоритетом в международных отношениях, так что политика, основанная на ценностях, должна вновь стать реальным практическим принципом.
Это подводит нас к вопросу о том, как права человека можно успешно защищать в международных отношениях. Именно потому, что международные организации, такие как ООН, Совет Европы и ОБСЕ, не имеют механизмов принуждения, а лишь инструменты оценки выполнения их стандартов и морального осуждения нарушителей, государства-члены исполняют свои обязательства в области прав человека только если сами этого хотят или вынуждены это делать под воздействием тех или иных стимулов. Прогрессу в области прав человека способствует наличие политических и экономических стимулов, например перспектива присоединения к Совету Европы, как это было после падения коммунизма, или, позднее, перспектива вступления в Европейский союз для стран Центральной и Восточной Европы. Но когда действенных стимулов нет, мы должны сделать так, чтобы цена нарушения прав человека для нарушителей резко выросла в рамках двусторонних отношений с другими государствами. Такие нарушения должны дорого стоить.
Никакой международной полиции или иного силового принуждения к исполнению обязательств в области прав человека, повторим, не существует, за исключением случаев гуманитарной интервенции в ответ на военные преступления и преступления против человечности. Соответственно, экономические рычаги выходят на первое место в борьбе за права человека. Здесь возникает классическая дилемма между интересами и ценностями, о которых говорил Фальк Бомсдорф. Это совсем не ложная дихотомия, потому что даже среди самих либералов продолжается острая дискуссия о балансе между realpolitik и политикой, основанной на ценностях.
Просто стыдить нарушителей недостаточно, это не работает. Нет никакого стыда у Эрдогана, Путина, Трампа или Мугабе. Соответственно, нужно использовать оценки нарушений прав человека, которые даются в ООН или в Совете Европы в качестве критериев для выработки экономических отношений ― не в абстрактном виде, а очень точно и конкретно.
Экономические или торговые соглашения должны заключаться только при условии соблюдения четких критериев в области прав человека (должен следовать перечень конкретных критериев). То же самое относится к принятию решений о выделении кредитов международными финансовыми институтами.
На практике это относительно просто сделать в отношении малых и слабых государств. Например, когда Европейский парламент отказывается ратифицировать торговое соглашение с Туркменистаном (в том числе в результате требований и на основе рекомендаций правозащитных организаций), для международного сообщества принять это решение не так тяжело, потому что роль этой страны в международной политике и экономике невелика. А когда это касается, например, России или Китая, принять такие решения намного сложнее.
Эта дилемма также означает, что цена защиты прав человека для государств, которые хотят защитить права в других странах и оказать воздействие на нарушителей, возрастает. Например, Германия и германское общество должны понять (а политики и гражданское общество должны им объяснить), что, например, газ будет стоить дороже, потому что Германия не должна строить газопровод «Северный поток-2» не только из-за агрессивных действий российских властей в Крыму и на Донбассе, но и потому, что в России происходят системные нарушения прав человека и откат от демократии. Немецкие политики часто говорят, что, мол, надо обогревать квартиры наших граждан газом из России, мы не можем от этого отказаться, так как от этого зависит наша экономика и благополучие нашего общества. Но если права человека для Германии действительно стоят на первом месте, то должна быть и цена, которую придется за это заплатить.
Здесь мы подходим к вопросу о роли и ответственности частного бизнеса в отношениях со странами-нарушителями, а не только об ответственности правительств демократических государств. Важно спросить об этом либералов ― в том числе немецких, потому что требование защиты прав человека входит в конфликт с принципом либеральных международных экономических отношений и свободы частного предпринимательства.
Итак, можете ли вы сказать, например, «Сименсу» или BP, чтобы они не инвестировали в тот же Туркменистан или в Азербайджан, потому что там диктатура и массово нарушаются права человека? Вопрос непростой. В Германии очень сильно влияние немецкого бизнеса вообще и Объединения германской экономики в частности на политику и принятие политических решений. Таким образом, это вопрос не только либеральных принципов, но и практики отношений либералов с разными акторами в обществе.
Важно как минимум ограничивать западный частный бизнес, когда он поставляет технологии и оборудование, использующиеся для нарушения прав человека. Тому есть масса конкретных примеров, и самый свежий также связан с Туркменистаном. Это одна из самых жестоких диктатур, массово и грубо нарушающая права человека, в стране широко распространены пытки, исчезновения в тюрьмах, запреты на выезд из страны и т.д. Так вот, германские компании (есть конкретные названия) подписывают с властями этой страны договоры о поставке оборудования для слежки в мобильных телефонах и интернете, для блокирования спутниковой связи и интернета и проч. Разве ответственность германского государства не должна состоять в том, чтобы не давать подобному происходить, не разрешать частному бизнесу поставлять технологии и оборудование для нарушения прав человека?
Кроме экономических рычагов, есть еще и правовые инструменты, когда уже не ООН, ОБСЕ и Совет Европы, а конкретные страны и их юридические системы могут и должны преследовать нарушителей прав человека из других стран. Имеются в виду не только экономические и визовые персональные санкции по типу законов Магнитского, которые, безусловно, важны и эффективны, но и механизм универсальной юрисдикции. Он предполагает прокурорское расследование и привлечение к судебной ответственности нарушителей прав человека из других стран, когда в вашей стране находятся жертвы этих нарушений. В частности, представим себе, что Рамзан Кадыров приехал в Германию на конную выставку и в Германии же находятся жертвы нарушения прав, ответственность за которые несет Кадыров. Немецкие адвокаты и прокуроры могут и должны расследовать эти дела и привлекать его к юридической ответственности.
Если говорить о санкциях, то после 2014 года Запад проснулся и стал применять санкции против российского правительства и близких к нему структур за нарушения международного права в области уважения суверенитета и территориальной целостности соседних государств (за Крым, Донбасс, дело Скрипалей). Однако серьезные и систематические нарушения прав человека внутри страны также являются нарушением международного права. Получается, мы признаем тем самым, что вопросы суверенитета и нерушимости границ важнее, чем вопросы соблюдения прав человека.
Это ошибочный подход. Это возвращает нас к началу нашей дискуссии о соотношении прав человека и государственного суверенитета. Российское гражданское общество уже много лет пытается донести до наших западных собеседников мысль, что внутренние репрессии, если международное сообщество на них не реагирует вовремя и эффективно, рано или поздно приводят к развязыванию внешней агрессии. Так произошло и с нашей страной, к сожалению. Поэтому демократическим странам нужно быстрее реагировать на нарушения прав человека и видеть прямую связь между их соблюдением и сохранением международного мира.
Это неправильно, что государства договариваются между собой о правах человека, а жизнь людей проходит в другой плоскости. На самом деле все успехи в области прав человека ― результат действий людей, общества. Если бы общество, организованные активные граждане не заставляли государства меняться, ситуация была бы намного хуже. Не удалось бы достичь очень многих успехов не только в принятии международных документов, но и в конкретных действиях по защите прав человека. Государство не монолитно, оно состоит из совершенно разных людей, на которых можно влиять. Книга г-на Баума справедливо напоминает нам, что Конституционный суд Германии и ряд ключевых политиков сыграли принципиальную роль в том, чтобы остановить эрозию прав человека в Германии в 2000-х годах, в ходе борьбы против терроризма. А в России так изменилась политическая система, что нет больше независимого Конституционного суда, сильных независимых политических партий, которые способны были бы действовать так, как это происходит в развитых демократиях. Но это не значит, что так будет всегда.
Показательно, как в результате действий гражданского общества, в том числе российских правозащитников и германских неправительственных организаций, удалось изменить ситуацию в Совете Европы, провести важнейшее расследование информации о коррупции, сформировать независимый орган по расследованию коррупции. Совет Европы очень сильно ослаблен не только систематическим невыполнением рядом стран своих обязательств, но и масштабной коррупцией, когда авторитарные страны просто покупают западных политиков, включая депутатов ПАСЕ, которые потом покрывают нарушения прав человека и фальсификацию выборов в этих странах. В результате изучения специальной комиссией материалов гражданского общества уже 10 депутатов ПАСЕ лишились своих мандатов, президент Ассамблеи отправлен в отставку и приняты новые этические стандарты ПАСЕ.
Это произошло в результате мощного давления гражданского общества и независимых расследовательских журналистских организаций. Не надо создавать новые международные организации ― надо защищать, укреплять и повышать стандарты работы уже существующих.
Приведу весьма уместную цитату недавно ушедшего в отставку комиссара по правам человека Совета Европы Нильса Муйжниекса. Власти Испании в диалоге с ним говорили, что нельзя их критиковать за нарушения прав человека в ходе действий правительства во время каталонского кризиса, потому что у них все очень сложно ― исторический контекст, политические особенности, трудное наследие... В ответ на это он сказал: я этих тонкостей не понимаю, но я понимаю права человека, и их надо соблюдать при любых обстоятельствах. Это нас возвращает к главной теме обсуждения: права человека должны быть снова подняты на верхний уровень приоритетов в международных отношениях, в политике государств и в действиях активных граждан, то есть нас с вами.
Во-первых, Всеобщая декларация прав человека, как все хорошо знают, 70 лет назад появилась как реакция государств на то, что произошло во время Второй мировой войны: массовые нарушения прав человека, массовые убийства, Холокост. Тогда, в 1948 году, государства поняли, что если не выработать общие правила, запрещающие нарушать права человека, то угроза новой мировой войны, с не менее ужасными последствиями, может стать вполне реальной. Таким образом, концепция прав человека в Декларации прав человека ООН отразила договоренность между государствами именно по защите их суверенитета и безопасности. Потому что государства, массово нарушающие права человека у себя, становятся опасными для других. Именно поэтому и была подписана Декларация прав человека ― в целях защиты мира и всеобщей безопасности.
Но даже в нашей дискуссии вопрос о конкретных людях и о том, как они воспринимают права человека, вообще не стоит. Мы все время обсуждаем вопрос прав человека с точки зрения государств. Но когда мы спрашиваем людей в России, что они ценят и что для них важно, то права человека у них стоят на семнадцатом месте. Для них важны совсем другие проблемы, которые их беспокоят каждый день, а о связи этих проблем с базовыми правами человека они мало что знают. По этой причине защищать права человека в том виде, в каком они сформулированы в международных соглашениях, они не пойдут, считая это задачей исключительно государства.
Чем занимаются правозащитники? Они заняты прекрасным делом — мониторингом всего, что происходит в этой сфере, помогая государствам отстаивать безопасность всего мира. То есть фактически они занимаются безопасностью и не имеют прямого прямого отношения к конкретным правам конкретных людей. Потому что даже те организации, которые, например, занимаются защитой людей от пыток, в мировой табели о рангах рассматриваются как организации в области social justice, а не human rights. Получается, что, когда дело касается обычных людей, это всего лишь вопрос социальной справедливости.
Рассказывая о том, что такое нарушения прав человека, мы говорим, что нарушить эти права может только государство. Это следует из самой концепции прав человека, ведь ее придумали государства и они же обязались не нарушать эти права. Но простому человеку наплевать, кто нарушает его права: государство, начальник или сосед, ― он ощущает все это как вмешательство в частную жизнь или нарушение его личного суверенитета. Вот что должно быть подлинной основой прав человека ― конкретные нарушения прав конкретных людей. А эти конкретные нарушения связаны, помимо всего прочего, с нарушением прав в сфере образования, здравоохранения, культуры, ЖКХ и т.д.
Таким образом, либералам необходимо понять, как связать «высокие» права человека с тем, что волнует конкретных людей в их повседневной жизни. Видимо, есть очень серьезные расхождения в трактовках, если мы за 70 лет не сумели убедить обычных людей в важности того, что записано во Всеобщей декларации прав человека. Именно поэтому появились так называемые права второго уровня, экономические и социальные права — потому что нужно было чем-то ответить на нужды населения. Людям, которые говорят: вы хорошо про свободу слова говорите, конечно, но нам важно, чтобы у нас была работа, социальная защита и так далее, необходим ответ на соответствующий запрос.
Что касается механизмов принуждения нарушителей прав, то очень наивно думать о реальной ответственности государств, потому что для них права человека по важности далеко не то же самое, что их, государств, безопасность или суверенитет. Именно эти понятия для них важны, это главные государственные интересы. Политики выбираются для того, чтобы отвечать не за конкретные права конкретного человека, а за государство в целом. Это значит, что они должны прежде всего обеспечить безопасность государства, его суверенитет, договориться с другими странами о правилах, чтобы соблюдались основы безопасности. Когда встает вопрос о выборе между безопасностью и правами человека, любое государство выберет безопасность. Некоторые политики даже считают, что можно пытать людей, чтобы обеспечить безопасность государства. Мы знаем про тюрьму Гуантанамо и прочие подобные примеры. На словах это обсуждают, но никто никаких санкций против США за пытки не вводил и не введет. Подобные призывы идеалистичны. Кто это будет делать, какое государство на это решится? Так что правозащитники, с их идеалистической позицией, не учитывают природы государства.
Государство и политика с правами человека не дружат. Государства соблюдают их лишь когда это не противоречит интересам безопасности и защиты суверенитета. Как только начинаются проблемы для суверенитета или безопасности, права человека отходят на второй план. Более того, даже Европейский союз ничего не может поделать с нарушениями прав человека отдельными своими членами, для которых государственный суверенитет оказывается важнее. На словах ― да, они все это касательно прав подписали. Но на практике для государства важнее совсем другое.
О слове «универсальный». Универсальной может быть постоянная Планка или скорость света в пустоте. Это законы природы. Но ничего из того, что придумали люди, универсальным быть не может по определению, поскольку всегда либо ошибочно, либо несовершенно. Неуниверсальны даже Божьи заповеди, которые хотя и чтутся, но не выполняются. То же и с правами человека ― они тоже чтутся, но не выполняются.
Права человека в том виде, в каком они были придуманы государствами для сохранения международной безопасности, находятся в серьезном кризисе, и надо не подтверждать их еще раз, а думать, как из этого кризиса выходить, в том числе, возможно, и переформулируя права человека с учетом глубоких изменений в мире, в частности в области моральных норм. Мы знаем примеры, когда 50 лет назад что-то считалось абсолютно правильным и замечательным, а теперь считается ужасным и невозможным.
С одной стороны, мы восхищаемся многим в Европе ― толерантностью, отношением европейцев к миграции, их восприятием важности защиты прав людей во всем мире, характеризующим отношение к чужим проблемам. С другой стороны, видим и то, что происходит в Венгрии, ― очень быстрый откат от свободы. Как только общество почувствовало угрозу собственной безопасности и привычной комфортной среде, тут же начался поиск вожака, который способен защитить комфортные условия жизни для данного общества (в случае Венгрии ― Виктор Орбан и его партия). Это надо воспринимать как угрозу нашим принципам защиты прав человека во всем мире, но тем не менее мы понимаем, что общество, видимо, так и развивается, далеко не всегда поступательно. Надо принимать такие риски в расчет и думать, как их преодолеть.
Надо признать, что путем насильственного принуждения исправить мир не получится. Нужно искать договорные и диалоговые пути. Поскольку права человека универсальны и важны во всем мире, надо думать о том, как отремонтировать институты международного права, которые смогут поступательно менять ситуацию во всем мире. Проводниками принципов этих международных институтов являются неправительственные правозащитные организации. Их защита на национальном уровне должна быть выстроена сейчас по-новому с учетом того, что происходит с ними в странах бывшего Советского Союза и Центральной Европы. В этих странах существует серьезное давление правительств на неправительственные организации, которые оказались внутри замкнутого суверенного пространства, изолированы. Их поддержка на международном уровне, безусловно, существует, но ее недостаточно для того, чтобы их сохранить и развивать дальше. Это происходит в России, в Кыргызстане, Казахстане, Азербайджане. Налицо резкий спад активности почти всех структур гражданского общества, которые быстро развивались в девяностые-двухтысячные годы, все это разрушает общую систему защиты прав человека.
Несколько слова об угрозе миграции, которая постоянно упоминается на всех уровнях в Европе и в российской пропаганде. Миграционные потоки действительно велики и, как говорят специалисты, будут усиливаться. Удержать их сложно, но здесь может помочь технический прогресс. Как утверждают специалисты, он идет такими темпами, что режимы, базирующиеся на энергетических ресурсах и благодаря этому ставшие диктатурами, скоро потеряют свое влияние, поскольку уже через несколько лет окажутся лишены своего ресурсного преимущества.
Кроме того, надо учитывать, что мы находимся в таком периоде развития, когда все человечество начинает постепенно переходить к значительно большей степени информационной открытости. Неправильно говорить, что в каких-то странах не идут те же самые глобальные процессы, которые идут в Европе, как, например, развитие доступа к информации. Когда мы говорим с людьми из Бирмы, встречаемся с людьми из Африки, то поражаемся, насколько они продвинуты сегодня в использовании Интернета, информационных технологий и социальных сетей, и понимаем, что действительно живем в едином мире. Желание наших правительств закрыться, превратить мир в набор узкосуверенных стран за железными занавесами технически нереализуемо.
Универсальность применительно к правам человека действительно существует — они одинаковы для всех людей, живущих в самых разных странах. Это понимание становится глобальным, что дает нам оптимистическую перспективу. Хочется надеяться, что в авангарде этого процесса будет Европейский союз. ЕС ― единственная платформа, на базе которой мы можем двигаться и к ремонту международных институтов, и к пониманию того, что мы действительно открытый мир для будущего.
Первая составляющая кризиса ― огосударствление всей проблематики прав человека, которое не могло прийти в голову ни отцам-основателям, ни многим из правозащитников и великих людей, на чьих плечах мы стоим. При этом замена суверенности одного государства суверенностью объединений государств ― Евросоюза, или других региональных организаций, или даже ООН, как выяснилось, основных проблем не решает. Дело даже не в конкретных недостатках той или другой системы: брюссельской, нью-йоркской и проч. Дело в «природных грехах» самого огосударствления, в приватизации государствами проблематики прав человека.
Вторая кризисная черта ― расширение понятия прав человека, их набора даже по сравнению с международными пактами. Универсальные права человека существуют, они «зашиты» в человека так же, как мировые константы зашиты во Вселенную. Нашу Вселенную нельзя описать, если не знать, что такие константы есть. Так и человека невозможно себе представить без этих самых прав. В этом смысл их универсализма, а не только в неотъемлемости, естественности и т.д. При этом произошло их безумное и бездумное расширение. Захватили чуть ли не все законные интересы людей ― законные, подчеркнем, то есть защищенные законами, в первую очередь национальными, но также и межгосударственными. Приватизировали их в рамках постоянно расширяющейся концепции прав человека. В итоге теперь обыватель считает, что у него есть право переходить улицу на желтый свет. На красный ― запрет. На зеленый ― разрешено. Но теперь надо побороться еще и за право переходить на желтый. Происходит профанация, девальвация понятия прав человека, доходя до примитивных глупостей.
Третий кризисный элемент еще более опасный. Он является следствием первого, огосударствления. Речь идет об инструментализации прав человека. Мы насоздавали (и это очень хорошо, никто не спорит) конвенции, декларации, пакты, Европейский суд по правам человека, даже Международный уголовный суд, другие правозащитные институты. Все они, конечно, межгосударственные. В них практически нет людей, не являющихся должностными лицами государств или не назначенных государствами. Это люди, всегда делегированные от имени государств. Подобная инструментализация очень полезна, конечно, для текущей защиты прав, но одновременно является и сильным ограничителем возможностей гражданского общества.
Четвертое ― мы потеряли возможность объяснять людям (не говоря о том, чтобы преподавать и учить), что такое права человека. Права человека вообще чрезмерно обобщенный конструкт, даже если говорить в узком смысле о фундаментальных правах (право на жизнь, на физическую неприкосновенность ― то, что мы называем естественными и неотъемлемыми правами). Они слишком разные. Мы должны объяснять и себе и людям, что права человека могут конкурировать друг с другом, что одно и то же право у разных людей и у разных групп принимает разные формы, которые нужно каким-то образом балансировать. Ошибочно думать, что права человека ― цельное яйцо, с которого нельзя даже скорлупу сковырнуть, не говоря уж о том, чтобы разбить. Люди этого часто не понимают.
При этом права человека не должны превратиться в своего рода школьную или вузовскую дисциплину. Это не химия и не математика — это особая ценность. Доступ каждого к информации о своих правах, к защите своих прав — да, но не предмет, которому можно научить, как невозможно научить человека дышать, смеяться, любить.
Кроме критики старой парадигмы, которую, не отвергая, он называет «ООНовской» и считает правильным расширять, углублять, видоизменять, Валентин Гефтер обратил внимание еще на две вещи. Начал он со сферы международной политики и межгосударственных отношений. Система защиты прав человека в международном масштабе должна быть основана на наличии не только государственных, но и иных способов контроля и арбитража. Они с Сергеем Ковалевым являются сторонниками этой теории и много лет говорят о ней на разных площадках. Они объясняют западным демократиям: вы добились баланса разных ветвей власти, сдержек и противовесов у себя в стране в ходе многовековой истории западноевропейской демократии, почему же вы не хотите сделать это в международном масштабе, где вы были бы одной из ветвей ― со своими принципами, со своими замечательными достижениями ― но лишь одной из нескольких, из многих? Тогда не получалось бы так, что те, кто сильнее и кто считает себя более правым, почему-то приобретают право вето в Совете безопасности ООН или в других местах.
Пора начать добиваться того, чтобы в мире существовали серьезные негосударственные силы, которые наравне с государствами и их объединениями могли бы участвовать во всем, от текущих решений, связанных с политикой прав человека, до самых кардинальных, вплоть до гуманитарных интервенций, о которых мы много спорили.
Есть и другой полюс — полюс людей. Самое важное — рассказать людям о том, что защитить от нарушения их прав может не только государство. Государство, конечно, обязано это делать и надо выбирать такое государство, которое это делает лучше, но главное все же самозащита. Надо использовать все возможности для объединения и действия — возможности, которые построены на ценностях прав человека, в том числе другого человека, а не только себя.
Если сами люди активно и каждодневно, а не раз в четыре года на выборах, участвуют на всех уровнях, начиная с местного самоуправления, в защите своих законных фундаментальных прав, тогда и мы сможем им помочь. Правозащитники и либералы, возможно, поняли это раньше других. Но если мы будем каждый раз говорить, что только государство, чиновники виноваты в нарушениях, что мы заставим их работать, засудим и так далее, то человек, слыша это и только это, никогда не станет источником соблюдения своих прав.
Этот набор прав варьируется, но, в общем, он ограничен и известен и в него не входит право переходить улицу на желтый свет и еще всякие разные права, которые можно придумать. То, что на практике люди повсюду не имеют этих универсальных прав, большая проблема, но нисколько не повод отказываться от нормативистского представления о том, что они их должны иметь. Как это реализовывать ― другой вопрос.
Хочется подчеркнуть два момента, связанные с историей создания концепции прав человека. С одной стороны — рациональное понимание того, что соблюдение прав человека сулит как бóльшую безопасность, так и большее благосостояние общества. С другой стороны — развитие идеи, основанной на эмпатии, нравственный императив Канта: если мы не хотим чего-то для себя, то мы не должны хотеть этого и для других. История цивилизации демонстрирует эту идею в развитии. Это до некоторой степени вопрос веры и либеральная ловушка для нас, потому что если мы считаем, что все имеют равные права и что эти права универсальны, то и другие имеют право считать, что эти права не универсальны. Для нас важна именно либеральная вера в универсальность прав человека.
Вопрос не в том, универсальны ли права человека в нашем нормативистском представлении. Практический вопрос для либералов ― что можно и нужно сделать для того, чтобы эти права в большей степени реализовывались, чтобы их универсальность фактически имела место. Предлагалось, чтобы одни государства принуждали другие экономическими, правовыми, а если надо, и силовыми методами. Это болезненный инструмент, и готовность к такого рода принуждению ― хотя бы экономическому ― означает готовность принуждающего заплатить за это бóльшую цену. С другой стороны, при использовании таких инструментов и объектом и субъектом являются государства.
Когда мы говорим про государство — субъект принуждения, очевидно, что это должно быть демократическое государство, для которого права человека являются ценностями, и, стало быть, его народ, который является реальным субъектом, должен захотеть эту цену заплатить. В конечном счете речь идет об общественном мнении, о мнении большинства.
Когда же мы говорим об объекте принуждения, то часто имеем в виду эфемерные конструкции наподобие «злого Путина» или «злого Чавеса», ограничивающих права людей, которые вовсе этого не хотят. Увы, очень часто это не так. Понятно, что есть элемент воли личности, власти, но, вне сомнений, есть и совершенно очевидная корреляция между общественным настроением в стране и тем, как конкретная власть эти права ограничивает. Поэтому, если мы принуждаем одни лишь государства, вряд ли мы будем эффективными. Мы должны апеллировать и к общественному мнению внутри страны, на которое опирается государство, ограничивающее права человека.
Соответственно, в конечном счете все упирается в нашу, либералов, аргументацию и способы ее донесения до разных аудиторий. Это то, что нам в первую очередь следовало бы обсуждать. Задача сложная. Нет простого ответа. Казалось бы, в России, где нелиберальная, нарушающая права человека власть, с одной стороны, вредит экономике, то есть благосостоянию людей, а с другой стороны, по большому счету вредит безопасности, потому что каждый может стать жертвой произвола, либеральная пропаганда прав человека могла бы быть успешной. Однако, к сожалению, мы видим, что ресурсы агрессивной антилиберальной пропаганды оказываются более мощными и преодолеть это затруднительно. Пропаганда не дает нам возможности донести рациональные и эмоциональные аргументы, на которых, собственно, и основывается идея универсальности прав человека. Нельзя согласиться с тем, что не надо заниматься просвещением.
Наоборот ― надо всеми силами распространять знание о правах человека, о том, что эти права есть, что это отдельная важная ценность, объяснять, как их можно понимать, какие в том числе могут быть конфликты в этой области. Важно преподавать права человека именно как отдельный предмет, объясняя всю совокупность этих прав, историю их развития. Преподавать там, где только есть такая возможность. Говорить об этом сейчас в России смешно, но, если бы это было возможно, это было бы необходимо делать.
Когда мы говорим о релятивистском откате, при котором практически все воспринимается как относительное, включая универсальность прав человека, то этот откат по большей части связан не с отрицанием прав как таковых, а с разными представлениями об их объеме. Разве российский суд или Путин станут говорить, что у нас нет свободы собраний? Они скажут, что, конечно, есть. Но эта свобода, с их точки зрения, подлежит широким ограничениям в демократическом обществе. Эти представления, конечно же, коренным образом выхолащивают смысл и содержание прав. Право сменить веру в теократической мусульманской стране отрицается, но мы считаем, что оно существует. Это экзотика, в большинстве же случаев речь идет о наполнении прав разным содержанием.
Ограничения могут уничтожить сами права, и в этом смысле необходимо говорить не о каких-то новых концепциях и понятиях, а о более внятном и ясном описании конкретного содержания этих прав, потому что в противном случае оппоненты всегда будут иметь возможность его выхолащивать.
Если говорить о деятельности международных институтов, то сам факт их наличия, конечно, представляет большую ценность, поскольку для воспитания общественного мнения важно, что хотя бы имитация признания прав авторитарными властями существует. Если бы они отрицались и насаждалось представление о том, что таких прав в принципе нет, было бы гораздо хуже, потому что наполнить имитационную форму реальным содержанием проще, чем создать концепцию с нуля.
Можно, например, сослаться на письмо митрополиту Даниилу боярина Федора Карпова в 1523 году: «Для того даны законы, чтоб не было так, что кто сильный, тот все может». Далее он пишет, что «если ты установишь, чтоб люди жили терпением, а не правдой, тогда не нужны царства, власти, правители и князья, упразднится начальство власти господства и будет жизнь беспорядочной, в буйстве сильный будет угнетать бессильного». Это XVI век, то есть задолго до любых оформленных теорий либерализма у образованных людей в Московском государстве уже существовало представление о том, для чего, собственно, нужно государство.
Другое дело, что сегодня мы видим, насколько позиции более либеральных, более демократических государств, которые берут на себя и в значительной части исполняют обязательства в области прав человека, ослабли по сравнению с тем, что было еще 15‒20 лет назад. Они в конкуренции государств и идей выглядят более слабыми. Почему? Могут, конечно, существовать региональные причины. Например, можно посмотреть очень интересные работы нобелевского лауреата Марио Варгаса Льёсы про Латинскую Америку ― о том, почему там слабый либерализм, и о том, что целый ряд ценных для человека прав, связанных с социальной защищенностью, либерализм порой защищает хуже, чем диктатуры и популистские режимы. Точно так же, если мы в российском городе спросим у людей о важных для них правах, то, к сожалению, обнаружим, что ряд важных для них прав в последние 20 лет защищаются лучше, чем в более свободные времена перестройки и в 1990-е годы. В этом определенный вызов для либералов, ведь государство в тот период, который соотносится обычно в восприятии людей с либерализмом, целый ряд прав защищало хуже.
Помимо региональных ситуаций, существует и общемировая проблема, связанная с тем, что права человека и уровень жизни теперь не соотносятся друг с другом так же прямо, как раньше. Если бы мы 20 лет назад посмотрели на список стран мира по ВВП на душу населения, особенно по паритету покупательной способности, мы бы увидели, что те страны, которые соблюдают права человека, и в материальном отношении живут лучше других. Сегодня, когда в первых строках по ВВП на душу населения находятся такие совершенно нелиберальные страны, как Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и т.д., возникает важный вопрос об экономике. В новых условиях либеральные государства должны найти новую экономическую форму, новую экономическую политику, при которой ресурсные экономики будут менее востребованы и привлекательны, не смогут быть мировыми лидерами по уровню жизни. Отдельный вызов ― страны, в которых нелиберальные режимы держатся не за счет распродажи недр, а как Китай, Вьетнам и другие ― за счет дешевой или относительно дешевой рабочей силы.
Следующий вопрос в этой связи ― как в эту новую экономическую политику будут встраиваться собственно общества либеральных стран. Если посмотреть, какие 110 тыс. голосов обеспечили победу Трампу в трех штатах США и оказались решающими при определении исхода выборов, на электоральную географию голосования за Брекзит, на электоральную географию голосования за Марин Ле Пен во Франции, на электоральную географию голосования за «Альтернативу для Германии», то выяснится, что основная поддержка им была оказана даже не в тех регионах, куда массово приезжают мигранты, а там, где мигрантов, может быть, немного, но люди чувствуют себя уязвимыми и не защищенными в экономическом плане. Это старые промышленные районы, которые не вписываются в новую постиндустриальную экономику. И это еще один вызов для либералов, который напрямую связан с правами человека.
Здесь мы вплотную подходим к вопросу, насколько права человека должны влиять на внешнюю экономическую политику. С нашей точки зрения, в такой же степени, в какой внешняя экономическая политика влияет на права человека. В какой степени 600 тыс. евро, полученных г-ном Шредером в этом году как вознаграждение за работу в российской государственной компании «Роснефть» и создающие у российской элиты впечатление, что все можно купить, в том числе и западных политиков, оказывают воздействие на появление в обществе презрения к либерализму и демократии? В какой мере на отношение к правам человека влияют realpolitik, моральный релятивизм, деморализация политики, подход business as usual со стороны западных стран, например, к путинскому режиму, да и не только к путинскому, а, например, и к Китаю после площади Тяньаньмэнь? Для преодоления этих негативных факторов ценности прав человека, несомненно, должны — с помощью либералов — влиять на принимаемые экономические и внешнеполитические решения.
Что касается вопроса о формах воздействия на политику государств в области прав человека, то нам нужны сегодня не новые концепции, а новые документы в этой сфере, которые будут ставить авторитарные режимы в ситуацию выбора: подписать и взять на себя определенные обязательства хотя бы номинально или не подписать и тем самым демонстративно отказаться от их исполнения и продемонстрировать суть своей политической системы. Например, очень важный новый вопрос ― о свободе Интернета, об анонимности в Интернете и о прайвеси.
Этот вопрос остро стоит в России в связи с попытками властей блокировать мессенджер «Телеграм» после вступления в действие так называемого закона Яровой. Если говорить о просветительской работе, которую мы, либералы, должны вести внутри России, то надо объяснять в том числе, во сколько десятков миллиардов «закон Яровой» обойдется компаниям сотовой связи и насколько подорожают связь и Интернет для обывателей.
Наши аргументы позволят связать политические права с экономическими и социальными правами и интересами, которые людей в большей степени занимают. Пусть это будет популистский аргумент в политической риторике либералов. Если же говорить об идеалистических действиях, то нам нужен общеевропейский и общемировой документ о правах человека в Интернете, о защите прайвеси, и дальше надо ставить страны перед необходимостью присоединяться к этому документу или честно заявлять о том, что они не стоят на защите прав и свобод граждан.
Инструментальность защиты прав человека тоже не вызывает никаких опасений, потому что регламентация всего этого дела позволяет довести обращения людей в международные институты до простого, здорового, эффективного упрощения и позволяет международным институтам во многих случаях сказать государствам: нам все равно, какое у вас национальное законодательство, мы в это не вмешиваемся ― это ваш суверенитет, но извольте так построить свои законы и правоприменительную практику, чтобы не нарушались права человека. Поэтому когда государства говорят: невозможно соблюдать, потому что у нас иначе построен национальный закон, им отвечают ― пишите свои законы, как хотите, мы вам не диктуем, но в итоге должно быть ненарушение прав человека.
Необходимо поддержать существующие международные институты. Они неидеальны, их можно дорабатывать, и сама жизнь помогает их реформировать, но, в принципе, они скроены на хороший лад. Жизнь показала их устойчивость и полезность. А на все то, что требует уточнения или даже некоторого развития, Совет Европы отвечает, что есть Конвенция о правах человека, она живой организм, который продолжает развиваться, есть Европейский суд по правам человека, который, если что-то надо поправить, поправит.
и следите за обновлениями!
Председатель Общероссийского общественного движения «Выбор России», политик, член Координационного совета Экспертной группы «Европейский диалог»
Разворачивается многоплановая культурная конфронтация космополитических мегаполисов и зачастую косной, закрытой и ксенофобной провинции. Трамп, Орбан, Качиньский и Путин не только политики-популисты, но и акторы и персонифицированные результаты культурных войн.
Во многих странах в культурный обиход возвращается политическая цензура и общая нетерпимость. Настойчивое продвижение концепции национальных (цивилизационных) «культурных кодов» создает условия для применения нового вида государственного насилия ― культурно-политического принуждения.
Какими в этих все более неблагоприятных обстоятельствах могут быть современные либеральные решения по установлению прочного «культурного мира», общественного согласия и сотрудничества людей по поводу культуры? Какими правовыми механизмами и институциональными инструментами можно обеспечить культурную свободу? Оправданна ли в XXI веке государственная «культурная политика»? Преодолим ли в принципе конфликт культуры как традиции и свободы как инновации?
Культурный вызов либерализму, сказал общественный деятель, член Координационного совета Экспертной группы «Европейский диалог», профессор НИУ ВШЭ Владимир Рыжков, один из самых публичных, заметных и болезненных в общественном пространстве. Либерал с точки зрения авторитаризма, национализма, ксенофобии прежде всего враг культурный. Большое и пристрастное внимание врагов либерализма к культурным сюжетам связано главным образом с тем, что в рамках либерального дискурса культура ― область абсолютной свободы. Художник может и должен творить с либеральной точки зрения абсолютно свободно. Национал-патриотическая, авторитарная, консервативная позиция, напротив, предписывает культурной сфере и творцам, что им делать можно, а чего нельзя.
В России, к примеру, в последнее время подобная культурная цензура быстро расширяет свои границы. Это выражается не только в прямых запретах ― закрытии спектаклей, отказах в выдаче и отзывах прокатных удостоверений игровых и документальных фильмов, как это произошло с оперой «Тангейзер» в Новосибирске, фильмом «Смерть Сталина» и многими участниками фестиваля документального кино «Артдокфест». Первой серьезной попыткой уголовного преследования за свободное творческое высказывание стал процесс 2010 года по делу бывшего директора Сахаровского центра Юрия Самодурова и куратора современного искусства Андрея Ерофеева, организовавших выставку «Запретное искусство». Сейчас в разгаре суд над всемирно известным режиссером Кириллом Серебренниковым, в котором просматривается вполне определенный политический подтекст ― стремление продемонстрировать моральную ущербность и корысть любимца либеральной интеллигенции.
Источник культурной цензуры не только государство, но и значительная часть общества. В Новосибирске, к примеру, проходили митинги не только за восстановление спектакля академического оперного театра, но и за его запрет. Хотя поддержка создателей «Тангейзера» была более мощной и массовой, чем выступления с их осуждением. Следует особенно отметить, что «традиционалистские» акции, в ходе которых звучат требования вернуть культурную цензуру, обычно организует само государство или церковь при поддержке властей. Их цель ― расколоть общество по вопросу о свободе культурной деятельности, легализовать сам принцип политической цензуры в культуре.
Культурные войны ― столкновение авангардной либеральной и традиционной культурных позиций, конфликт религиозного и атеистического подходов, культуры мигрантов и националистов ― наблюдаются и в Европе, и в США. Необходимо открыть широкую дискуссию и попытаться сформулировать жизнеспособную либеральную модель культурной политики. Надо ответить на вопрос, как обеспечить свободу культуры в традиционной среде и при этом избежать непримиримых общественных конфликтов, а также можно ли утверждать, что в Европе существует полная творческая свобода и нет никаких запретов и ответственности деятелей культуры.
Владимир Рыжков также согласился с коллегами в том, что настоящая культура не имеет национальных границ, и напомнил примечательный эпизод, связанный с выставкой Михаила Врубеля, проходившей в рамках Дягилевских сезонов в начале ХХ века. По свидетельству исследователей, молодой Пикассо долгое время провел, рассматривая работы российского художника. Он не воспринимал его творчество как экзотику. Для Пикассо Врубель был важным и актуальным явлением общей европейской культуры.
Тезис же о том, что роль чиновника в творческой судьбе художника ничтожна, скорее вызывает сомнения, особенно применительно к российским реалиям. Слишком многие замыслы в советские времена остались нереализованными из-за отсутствия государственного финансирования ― например, фильмы таких выдающихся режиссеров, как Василий Шукшин и Андрей Тарковский. Личное благоволение министра оказывалось и, к сожалению, во многом оказывается и сегодня важным фактором культурного развития в России.
Еще одна острая российская проблема ― глубоко консервативный вкус региональной аудитории. Провинциальная публика воспринимает преимущественно художественный язык русского реалистического искусства второй половины XIX века (Шишкин, Репин, Айвазовский). А современный художник, даже очень высокого класса, зачастую остается не в полной мере востребованным. На Алтае, в городе Барнауле, живет выдающийся художник Альфред Фризен, ученик великого Роберта Фалька. Ему уже 85 лет, он считается одним из лидеров сибирского авангарда. Однако в родном городе его работы покупает только Государственный художественный музей Алтайского края и заезжие иностранцы. Продвинутая аудитория Фризена находится в сибирских интеллектуальных центрах ― в Новосибирске, в Академгородке.
Серьезным вызовом остаются ситуации, когда важные культурные проекты поддерживаются коммерческими компаниями, в основной деятельности далеко не всегда ориентированными на достижение общественного блага. Пример ― «Газпром», лоббирующий проект строительства магистрального экспортного газопровода через Алтайские горы в Китай. Этот мегапроект чреват возможным ущербом для четырех природных памятников (заповедников), включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для того чтобы получить поддержку местного населения в этой сомнительной ситуации, «Газпром» выделил огромные деньги на новое здание и оснащение Национального музея имени А.В. Анохина в Горно-Алтайске. Теперь это великолепный музей со стеклянными лифтами, со специальным подземным залом, в котором экспонируется знаменитая мумия скифской «принцессы Укока»; наконец, это общественное пространство с лучшими в Республике Алтай туалетами. Целый этаж отдан блестящему художнику, последнему ученику Шишкина, Григорию Чорос-Гуркину, расстрелянному в 1938 году. Музей ― великолепная культурная институция, которая привлекает не только сторонников строительства газопровода.
Роман Абрамович, олигарх с неоднозначной репутацией, которому Швейцария недавно отказала в виде на жительство, а Великобритания не продлила бизнес-визу, поддерживает либеральный и открытый центр современной культуры «Гараж». Здесь проходит выставка, посвященная одной из самых ярких арт-акций последних лет ― проекту «Монстрация» новосибирца Артема Лоскутова. Таким образом, близкий к консервативной власти олигарх поддерживает радикального художника и активиста. Как либералам и гражданскому обществу реагировать на подобного рода ситуации и конфликты?
Либеральный подход исключает всякую возможность политической и вкусовой цензуры, идеологического контроля и вмешательства государства в содержание культурной деятельности. Если общество решает, что культура является важным общественным благом (а она, несомненно, таким благом является), если налогоплательщики соглашаются с тем, что часть налогов должна идти на его поддержание, возникает вопрос, как и кто будет распределять этот ресурс. Тут нам, видимо, все же не обойтись без государственных органов. В той или иной форме они есть во всех современных государствах. Но только ли чиновник уполномочен принимать решение по этому поводу? Ведь он может быть политически ангажирован, к примеру оказаться членом партии «Единая Россия» или КПРФ. Были упомянуты удачные опыты решающего участия независимой экспертизы. Как верно заметил Александр Гнездилов, свобода ― предварительное и необходимое условие и для либералов, и для традиционалистов. Это основа основ, которая должна быть гарантирована Конституцией, законами и государством. Если же присутствует свобода, институциональные решения, связанные с формированием экспертного корпуса, с организацией ресурсного обеспечения культуры, с гарантиями невмешательства государства в содержание деятельности, оказываются чисто техническими деталями.
В широком либеральном дискурсе по этому поводу существует два подхода, две точки зрения. Один из них, почти либертарианский, допускает существование культуры только в частном секторе, поскольку государственная поддержка культуры означает контроль и неизбежное вмешательство в содержание искусства.
Другой подход предполагает свободу культурной деятельности в том числе и в рамках общественных институций, которые финансируются за счет налогов. Здесь возникает ключевая проблема меры взаимной ответственность общества, культурных акторов и государства, призванного обеспечить свободное воспроизводство культуры.
Сотрудник отдела культуры Бундестага, советник депутата Бундестага
Немецкие националисты в разные времена ― во Втором, в Третьем рейхе и даже в ГДР ― предъявляли «Уту из Наумбурга» как подлинный «эталонный» образец немецкой женщины. Однако современные исследователи убедительно доказали, что автор скульптуры был французом. В поисках работы он разъезжал по Европе, бывал в Англии и, судя по всему, создавал образец европейской, а не германской красоты. Выдающийся русский коллекционер Сергей Третьяков формировал свою коллекцию в путешествиях по Франции, Германии, Италии. Эти и другие подобные факты свидетельствуют о том, что мы, либералы, более адекватно, чем националисты-консерваторы, судим о феномене европейской культуры. Все мы говорим на одном европейском культурном языке и принадлежим к одной европейской культурной традиции.
В Европе большинство государств поддерживают культуру, но при этом приоритетом для них всегда остается свобода художника. Это четко установлено в законах и конституциях, и существует совсем немного ее ограничений. Практически полная свобода творчества, конечно же, предполагает и свободу общественной дискуссии по поводу творчества. Так, в одном из больших немецких оперных театров долгие годы шел спектакль (опера Моцарта), в котором на сцену выходили вместе Иисус, Будда и Мухаммед. Недавно возникла дискуссия, инициированная теми, кто не хотел бы видеть на сцене одного из этих персонажей, а именно пророка Мухаммеда. Участники дискуссии пришли к следующему принципиальному выводу. Современный европеец не должен устраивать скандал, если ему что-то не нравится в театре или на выставке. Ему лишь следует избегать потребления культурного продукта, который ему не навязывают, тем более если по поводу этого продукта есть настораживающая предварительная информация. Публичный скандал ― практика XIX века. В одном из музеев, где работал спикер, проходила острая по содержанию выставка, посвященная человеческому телу и телесности. Предварительное информирование публики о содержании таких проектов, рекомендации по возрастным ограничениям ― все это возможно в рамках либерального подхода к культурной деятельности.
Рассуждая о культурных институциях, следует отметить следующее. Исторически сложилось так, что государственные учреждения культуры ― опера, музеи и другие ― поддерживались гражданами не только через налоговую систему, но и через систему меценатства, через разного рода клубы, общества и ассоциации друзей. Люди спонсируют их прямо или косвенно. И очень важно сегодня поддерживать у граждан ощущение вовлеченности в культурную жизнь, причастности к финансированию культуры, ее воспроизводству.
Наблюдательные и попечительские советы больших учреждений культуры призваны обеспечивать связь гражданского общества с их деятельностью. Часто в подобных советах присутствуют представители разных политических партий, в том числе правоконсервативных, например AfD («Альтернатива для Германии»). Немецкие либералы считают, что они также должны участвовать в таких органах. Но не для того, чтобы влиять на содержание и оценивать результаты творческой деятельности. Наоборот ― участие политиков и гражданского общества необходимо для обеспечения большей независимости культурных институций, препятствования их политизации и в целях установления эффективной коммуникации между свободными гражданами и свободными деятелями культуры. Культурную политику можно назвать либеральной только тогда, когда обеспечено участие граждан в ее формировании и реализации.
Именно либералы должны защищать руководителей культурных учреждений в ситуации, когда представители власти оказываются недовольны результатами их работы по политическим или вкусовым основаниям, то есть по причинам, не связанным с программой работы институции, принятой наблюдательным советом и гражданским обществом. Необходимо сохранить свободу действий культурного лидера, он должен быть уверен в том, что сможет реализовывать свои согласованные с гражданами планы.
Свободная демократическая партия Германия также инициировала дискуссию, призванную разработать систему обеспечения настоящей независимости и высокого социального статуса творческого работника. Речь идет о планах создания своеобразной кассы взаимопомощи для людей искусства.
Через такую кассу лица свободных профессий, прежде всего художники и литераторы, смогут заключать договоры пенсионного страхования. У них нет работодателя, который обычно отчисляет страховые взносы в государственные фонды, нет стабильных доходов, достаточных для заключения договоров с частными страховыми компаниями. С 1970-х годов свободные демократы разрабатывают систему, которая финансируется из разных источников и гарантирует художнику достойное существование в случае болезни и потери трудоспособности.
Вообще, существуют две модели финансирования культуры и культурных институций. Первая, можно назвать ее американской, предполагает почти исключительно частную поддержку, поощряемую со стороны государства налоговыми вычетами. Вторая модель, больше применяемая в Европе, ― государственное финансирование культуры за счет налогов. В рамках этой модели институции также получают доход за счет предоставления услуг (продажа билетов) и привлечения частных и корпоративных спонсоров (клубы и ассоциации друзей учреждений, меценатство).
Проблема с американской моделью заключается в том, что тот, кто платит, зачастую пытается еще и влиять на содержание, на культурную политику. А это не соответствует либеральному подходу. Известен случай, когда богатая чикагская дама предлагала огромный бюджет на постановку полного цикла вагнеровского «Кольца Нибелунгов», но при условии, что новая постановка будет в точности повторять немецкие спектакли 1932 года. Директор оперы ответил ей отказом, несмотря на щедрость предложения, поскольку коллектив не считал возможным подчиниться содержательному диктату спонсора.
В Германии, как и в России, государство заинтересовано в целесообразном и оптимальном расходовании средств на культуру. Однако управление культурой в ФРГ децентрализовано и не выстроено в формате вертикали. Практически невозможно найти немецкого политика, который бы взял на себя ответственность навязывать художнику, режиссеру или писателю свои представления о прекрасном и безобразном.
Директор Австрийского культурного форума и атташе по культуре Посольства Австрии в Москве
Организатор знаковых выставок современного искусства в России
Для проектов Симона Мраза важно, что они реализуются не в столичных культурных центрах типа «Гаража», принадлежащих меценатам-олигархам, а в провинциальной России, где современное западное искусство не всегда чувствует себя как дома. Куратору приходится корректировать европейских коллег, которые рассматривают современное искусство как имеющее отношение только к «западным» проблемам и ценностям. Все усилия необходимо направлять на то, чтобы аудитория понимала: актуальное искусство работает с современностью, не имеющей границ, как и с общими для России и Европы проблемами. В России в XIX‒XXI веках работали и работают важные для всего мира художники, вписывающиеся в европейские тренды развития искусства. Задача кураторов ― выявлять ценностное и проблемное единство российского и европейского старого и нового искусства.
Тема творческой свободы тесно связана с проблемой продвижения современного искусства европейского качества в российские регионы. Такое качество иногда ассоциируется у властей с проявлением излишней свободы, которую следует ограничивать. Но эту свободу необходимо защищать. Конечно, можно утешать себя тем, что страну в мире представляет выдающийся художник, а не министр культуры, занимающий пост «во времена художника». Для посетителей Эрмитажа и других мировых музеев голландский XVII век ― это Рембрандт, а не штатгальтер принц Оранский. Но это очевидное обстоятельство не снимает с тех, кто занимается поддержанием и воспроизводством искусства, ответственности за судьбы больших российских художников. Необходимо делать все возможное, чтобы они оставались в стране и могли свободно работать.
Сохранить собственную свободную культуру ― важнейшая для России задача. Возможно, это консервативная позиция, но ее должно решать прежде всего государство. Именно государство несет основную ответственность за художников и за искусство. Несколько миллионеров, для которых современное искусство всего лишь дорогая игрушка, не могут и не должны заменять в этой части государство как институт, служащий общественному благу. Следует строить систему государственных и частных фондов, поддерживающих разные направления современного искусства.
При этом ни государственные чиновники, какими бы высокопоставленными они ни были, ни частные спонсоры не имеют никакого права навязывать художникам свои представления о том, каким должно быть искусство. Они могут только констатировать, что представляют собой те или иные феномены.
Важно также отслеживать ситуацию с поддержанием свободных арт-практик от местных государственных структур в регионах, там, где бизнес не так силен и свободен, как в столицах. Доступ провинциального художника к профессиональным и социальным лифтам, возможности карьерного роста также чрезвычайно важное условие сохранения культуры и ее воспроизводства.
Необходимо отметить и особое значение поддержки самоорганизации в культуре. Частным спонсорам и государственным структурам иногда не хватает информации о региональных культурных инициативах. В связи с этим чрезвычайно перспективным представляется проект NEMOSKVA (2018), построенный на частно-государственном партнерстве (РОСИЗО-ГЦСИ и Благотворительный фонд Владимира Потанина). В рамках проекта художники, кураторы и арт-критики совершили поездку на поезде из Москвы во Владивосток.
Останавливаясь в городах по дороге, они открывали привезенные и местные выставки, проводили акции, мониторили ситуацию с современным искусством, подбирали самые интересные проекты для больших выставок, которые состоятся в течение трех ближайших лет в Москве, на Венецианской биеннале современного искусства, в Центре изящных искусств в Брюсселе BOZAR.
Проекты такого рода (пока их явно недостаточно в России) объясняют людям, что современное искусство ― это не страшно, что оно существует не только в европейских столицах, но и в самых отдаленных уголках больших стран. Кроме того, они демонстрируют ценности свободы творчества и самоорганизации. Объективно это способствует расширению и демократизации либеральной повестки, как бы к ней ни относились государственные и частные инициаторы и спонсоры подобных инициатив.
Кандидат искусствоведения, историк, социолог, продюсер медиапроектов, музейный консультант, эксперт по культурной политике.
По поводу либерального отношения к ситуациям с чуждыми общественному благу, общественно «токсичными» спонсорами культурных проектов предлагается следующая либеральная позиция: в каждом подобном случае должна вестись открытая дискуссия. Одна часть общества, для которой это имеет значение, будет, конечно же, бойкотировать такие проекты, другая ― нет. А либеральный контекст функционирования культуры в данном случае заключается в том, что ни у той, ни у другой части общества не будет никаких препятствий, во-первых, для выражения мнения по этому поводу, а во-вторых, для действий против или в защиту таких проектов, естественно в рамках административного и уголовного законодательства.
В целом, конечно, независимые от государства источники финансирования культуры ― феномен либеральный, какими бы антиобщественными они нам ни казались. Вряд ли кому-то понравится перечисление ужасных грехов и преступлений важнейших мировых меценатов и спонсоров культуры. Всем известно, например, что Пол Гетти был крайне несимпатичным человеком и циничным бизнесменом. Тем не менее Фонд Гетти и музейный комплекс «Центр Гетти» ― важнейшие для современной культуры открытые и демократичные институции, без которых невозможно представить себе современный мировой культурный ландшафт. Центр возник после смерти Пола Гетти, который держал свою коллекцию под спудом и никому не давал на нее взглянуть. Но ни его наследники, ни он сам с небес не могут вмешаться в деятельность этой институции, повлиять на ее содержание.
Так происходит потому, что в американском либеральном контексте культура не лишена субъектности. Деньги Гетти только инструмент. Не покойный магнат, а сама культура является субъектом и источником культурной политики. Вот и Роман Абрамович, насколько известно, не вмешивается в содержание деятельности «Гаража», основные параметры которой определяются конъюнктурой и перспективами развития современного искусства в России и в мире. Более того, эта институция, уровень субъектности и активность которой чрезвычайно высоки, через мощные проекты сама участвует в формировании конъюнктуры и обеспечивает будущее искусства, по крайней мере в России.
Проблема в том, что модели воспроизводства и вообще модели всякой деятельности в России пока очень плохо устроены, и нет такого системного изъяна в культурной сфере, который бы не имел аналогов в политике, бизнесе и т.д. Например, руководитель учреждения культуры, причем не только федерального, а любого уровня, равно как и руководитель предприятия, подписывает трудовой контракт, по которому он может быть уволен учредителем без объяснения причин. Этот пункт типового контракта соответствует потребностям антилиберальной модели управления культурой.
Так в 2015 году в связи со скандалом вокруг постановки оперы Вагнера «Тангейзер» Министерство культуры РФ, как учредитель, уволило без объяснения причин из Новосибирской оперы выдающегося российского театрального директора Бориса Мездрича. Все проблемы с оскорблением чувств верующих были выяснены в уголовном суде, который Мездрич и режиссер Кулябин выиграли. Но учредитель и главный донор театра, обладавший субъектностью, из политических соображений счел необходимым избавиться от неуправляемого директора. По требованию другого влиятельного российского субъекта культурной политики, патриарха РПЦ Кирилла, он был уволен с «волчьим билетом» и несколько лет не мог найти работу в российских театрах (с 2018 года Борис Мездрич ― директор московского театра «Практика»).
Поднимался вопрос о министре культуры: имеет ли значение, хорош он или плох? Безусловно, имеет. Весной 2011 года эксперты и жюри премии «Инновация», которую присуждает подразделение Минкульта России ― Государственный центр современного искусства (ГЦСИ), присудили главную награду арт-группе «Война» за акцию «Х*й в плену у ФСБ». Разразился ужасный скандал. Депутаты Госдумы потребовали отмены решения жюри и отставки министра культуры Александра Авдеева. В ответ министерство заявило, что считает проект «провокационным, хулиганским, омерзительным с художественной и нравственной точки зрения». Однако за такой оценкой последовало чрезвычайно важное уточнение: «При этом необходимо отметить, что Министерство культуры не является цензурным органом... Мы не хотели бы повторять печальный опыт отношений власти и современного искусства, которым был отмечен период правления Никиты Хрущева.
Отмена вручения ежегодной премии в области современного искусства, притом что в других номинациях были представлены известные художники, такие как Илья и Эмилия Кабаковы, нанесла бы больший урон формирующемуся гражданскому обществу». Минкульт отметил, что если акция действительно нарушила закон, то заниматься этим должны правоохранительные органы, а не эксперты, которым ведомство доверяет. В итоге группа «Война» осталась лауреатом премии. Это было бы совершенно невозможно, если бы Минкульт возглавлял не интеллигентный дипломат Авдеев (уже семь лет, как он посол в Ватикане), а невежественный пиарщик или ангажированный политик.
Личность министра культуры имеет значение, но значительно важнее, есть в стране вообще Министерство культуры или нет и каковы полномочия того органа, который взял на себя ответственность (именно ответственность, а не руководство) за среду, в которой функционирует и воспроизводится культура. Недостаточно широко известно, что первое в мире Министерство культуры возникло в СССР в 1953 году ― через несколько дней после смерти Сталина. То есть минкульт как институция ― сталинский проект. До этого к культуре не относились как к отрасли. Не было отдельного министра в кабинете вроде министра легкой промышленности.
Тогда, в 1953-м, окончательно оформилась институциональная структура культурной отрасли, которая тщательно выстраивалась с 1932 года, с момента принятия постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Эта структура была устроена жестко вертикально. В нее входило Министерство культуры, республиканские, областные, муниципальные управления культуры и дополнительные органы управления ― такие, как творческие союзы. Творческие союзы не являлись ни объединениями взаимопомощи представителей творческих профессий, ни профсоюзами, они не были независимыми, поскольку финансировались из госбюджета.
Предназначением выстроенной системы было не создание условий для свободного самовоспроизводства культуры, а именно управление и идеологический контроль над содержанием культуры, недопущение того, чтобы кто-то «неинституционализированный» бесконтрольно воспользовался государственными ресурсами. Например, в СССР художник (в широком смысле) не считался художником, если не имел присвоенного государством статуса профессионала. Членство в творческом союзе и было свидетельством того, что художник признанный государством профессионал.
Творческие работники, не состоявшие в союзах или их молодежных объединениях, но свободно и бесконтрольно творившие (андеграундные художники или писатели типа нобелевского лауреата по литературе Иосифа Бродского), считались людьми без профессии и могли подпасть под действие законодательства о тунеядстве, как это и произошло с Бродским. Таким образом, уровень зарегулированности сферы культуры, из которой оказалось выхолощенным понятие общественного блага, был в СССР невероятно высоким.
Такое институциональные устройство «отрасли» лишало культуру субъектности ― она оказывалась частью государства и объектом жесткого управления с его стороны.
Второе в мире Министерство культуры после СССР появилось во Франции в 1959 году. И это симптоматично. В такой институции, как минкультуры, нуждаются тоталитарный (сталинский СССР) или полуавторитарный (деголлевская Франция) режимы. Но при этом личность министра, конечно, накладывает отпечаток на деятельность ведомства. Первым министром культуры в СССР (а значит, и в мире) стал в 1953 году кадровый партработник, начальник Центрального штаба партизанского движения в годы войны Пантелеймон Кондратович Пономаренко. В 1959-м аналогичную позицию в правительстве де Голля занял культуролог и писатель Андре Мальро.
Главная проблема российской культуры состоит в том, что реформы 1990–2000-х годов с институциональной точки зрения практически не затронули две сферы ― спецслужбы и культуру. В тот момент, когда произошел консервативный поворот 2000-х, на него одновременно «сработали» и культура и спецслужбы. Внимание к культуре со стороны власти сегодня сравнимо только с тем интересом, который проявлял к ней Иосиф Сталин. У того была осознанная миссия ― он выстроил описанную систему управления культурой и фактически сам ее возглавил. В наши дни институциональные скрепы культурной отрасли понадобились для беспрецедентной социокультурной мобилизации. Ее цель ― сохранение status quo в политике и экономике, остановка развития. И вот президент Российской Федерации заинтересованно участвует в каждом заседании собственного Совета по культуре и искусству (в 1990-е и начале 2000-х президент приходил на Совет в лучшем случае два раза в течение срока полномочий), лично решает конкретные вопросы законодательства и функционирования учреждений культуры.
Так, 14 декабря 2018 года, во время встречи с театральными деятелями, Путин получил из рук директора Театра наций и фестиваля «Золотая маска» Марии Ревякиной предложения по совершенствованию 44-го федерального закона о госзакупках. Уже 24 декабря депутаты во главе с председателем Комитета по культуре Еленой Ямпольской внесли в Госдуму законопроект об особенностях госзакупок для учреждений культуры, серьезно либерализирующий финансовую деятельность и снижающий мелочный контроль над расходованием бюджетных средств. Случай с законопроектом ― яркий пример институционального кризиса отрасли. Очевидно либеральный проект был реализован не просто антилиберальным, а прямо-таки архаическим способом ― минуя министерства, ведомства, в режиме ручного управления. На той же встрече в декабре 2018 года худрук московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман пожаловался президенту на таможенные проблемы, связанные со ввозом в Россию из Европы декораций и костюмов для спектаклей, которые переносятся на сцену его театра. Путин пообещал разобраться и с этим. Подобные встречи руководителя страны, избранного президента с писателями, работниками театра и т.п. ― дремучая архаика, о которой как-то неловко рассуждать на исходе второго десятилетия XXI века.
В 1991 году у многих «деятелей культуры» возникла иллюзия, что в отрасли можно ничего не менять и все будет хорошо, если в чиновничьи кресла, в которых сидели плохие люди, посадить людей хороших. Из этого ничего не вышло. На смену либеральным министрам Евгению Сидорову, Михаилу Швыдкому, Александру Авдееву, которые компенсировали жесткоконсервативную модель управления своим либеральным подходом, пришли идеологические контролеры старого типа ― министр Мединский, его первый зам Аристархов, советник министра по культурной политике Арсений Миронов, и система заработала в привычном ― директивном и иедологическом режиме. В результате г-н Аристархов рассылает во все музеи ― не только художественные, но даже историко-краеведческие ― специальный циркуляр, в котором содержится бюрократическая трактовка понятия «современное искусство».
Современное искусство «по-министерски» ― это ни в коем случае не радикальное, так называемое актуальное искусство, непонятное, нефигуративное, ориентированное на социальную критику и т.п. Все трактуется иначе ― живущие в одно время с нами художники ― Шилов, Глазунов, Кабаков ― это и есть современное искусство. «Актуальное искусство», трактующее острые социальные проблемы, суть западное заимствование, не соответствующее «российской традиции». Попытки навязать обществу министерское определение современного искусства знаменуют собой процесс возникновения бюрократической гиперсубъектности в культурной политике.
Модель воспроизводства культуры, которая сложилась в России, по аналогии с политической моделью можно назвать гибридной. Она, с одной стороны, праволиберальная, поскольку государство делает все, чтобы сократить расходы на культуру, ― проводит «оптимизацию», устанавливает повышенные показатели по доходам и посещаемости учреждений. А с другой ― ультраконсервативная с точки зрения идеологической.
Речь в данном случае идет о «возвращении к истокам», национал-патриотической риторике, апеллировании к так называемым традиционным ценностям. При этом, конечно, бюрократы-управленцы обращаются не к настоящей традиции, а к выдуманной заново «официальной народности». Настоящая традиционная русская культура ― бунтарская, провокационная, спонтанная и неподцензурная. Вспомним «Русские заветные сказки» Афанасьева, конфликт первых славянофилов (братьев Киреевских, Алексея Хомякова) с властью. Вспомним советских писателей-почвенников 1970-х — Валентина Распутина, Василия Белова, Владимира Солоухина, Бориса Можаева. Власть считала их едва ли не диссидентами. Знаменитый хор Дмитрия Покровского, который работал с аутентичным музыкальным материалом, выглядел в 1970–80-е годы как арт-провокация. Этот коллектив эстетически и идеологически противостоял академическому хору Пятницкого, официальная народность которого не имела никакого отношения ни к истории, ни к традиции.
Яркий пример институциональной гибридности ― российский Фонд кино. По форме это вполне либеральная структура. Она формально оторвана от бюрократии, от Министерства культуры. Решения по поддержке кинопроектов принимают эксперты. Совсем недавно гибридная система сочла Фонд слишком либеральным и изменила устав организации. Теперь составы советов Фонда (в том числе попечительского), а также кандидатуру на должность исполнительного директора Фонда кино будет утверждать правительство по представлению Минкультуры. Таким образом, либеральная институция была возвращена в бюрократическое консервативное лоно.
В гибридную модель функционирования культуры перенесены такие характерные черты политической архаики, как преемничество и несменяемость власти, вернувшиеся в нашу жизнь в конце 1990-х. Руководитель крупного учреждения культуры в России в большинстве случаев занимает свой пост если не пожизненно, то неадекватно много лет.
С точки зрения либерала, культура невероятно конкурентная среда. Культурная среда либеральна по сути. Государство же делает все возможное, чтобы снизить уровень конкурентности в культуре. Речь в данном случае о финансировании государственных культурных мегапроектов, институте учреждений федерального подчинения, о материальной поддержке идеологической лояльности. Все это превращает культуру в индустрию, главная цель которой обслуживание государства.
Возникает вопрос: как быть с этой ситуацией?
Прежде всего насущно необходимо избавляться от гиперпатернализма, царящего в культурной сфере и совершенно несовместимого с либеральной повесткой. На заседании Госсовета, посвященного культуре и искусству, в октябре 2013 года, Владимир Толстой, советник президента по культуре и прямой потомок великого писателя-бунтаря, предельно откровенно описал одобряемую властью гиперпатерналистскую антилиберальную модель взаимоотношений культуры и государства: «Экономисты, эксперты рассматривают и сравнивают модели отношений к культуре “государство-меценат” или “государство-инвестор”. А нам бы хотелось выстроить более человечную модель — “государство-родитель”, пусть строгий и требовательный, не поощряющий баловство и тем более хулиганство, но справедливый, понимающий и любящий.
При таком отношении культура быстро способна вырасти в крепкую и могучую опору своему государству, стать той самой надежной скрепляющей и объединяющей силой, которую все сейчас так настойчиво, но пока тщетно ищут». По формуле Владимира Толстого, культура должна государству, а не наоборот. Культура как опора государства?! Государство ― строгий и требовательный родитель? Хорошо, что великий свободолюбивый предок советника президента не слышит этого.
Гиперпатернализм был закреплен годом позже в документе с неопределенным статусом под названием «Основы государственной культурной политики». Это не закон, не указ, но вполне определенный идеологический месседж, подписанный президентом. «Основы» ― беспрецедентное явление в истории России. Особые взаимоотношения государства и культуры, как и особое положение российского государства («государства-цивилизации»), никогда до того не были кодифицированы. Этот абсолютно антиконституционный документ, в котором мало конкретики, но много государственнической идеологии, сейчас используется в разного рода репрессивных антилиберальных практиках. Простой ссылки на него: «не соответствует “Основам государственной культурной политики”» ― бывает достаточно, чтобы отказать в доверии руководителю учреждения культуры, закрыть спектакль, не выдать прокатное удостоверение фильму.
Одной из главных целей культурной политики авторы документа объявляют «передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения». Очевиден консервативно-охранительный характер этого тезиса. Никто пока не смог предложить список «исконно российских традиционных ценностей и норм поведения», отличающихся чем-то от европейских. Кроме того, в либеральном понимании функция культуры заключается в расширении границ, постоянной переинтерпретации наследия, изменении представлений о норме, которое происходит неизбежно, вне зависимости от пожеланий и вкусов президента и Минкульта.
Не вызывает никаких сомнений, что либеральный подход предполагает дезавуирование «Основ государственной культурной политики» и изъятие этого документа из бюрократического обихода.
Необходимо радикально децентрализовать культурную сферу, максимально приблизить ее к местному самоуправлению, оставив за федеральным центром ограниченные полномочия и бюджеты.
Не согласен с Александром Гнездиловым в том, что российское общество не готово к восприятию актуального критического искусства. Это тоже стереотип, во многом навязанный невежественными чиновниками и не основанный ни на исследованиях аудитории, ни на реалиях культурной жизни. Некоторые заявления управленцев по этому поводу выглядят просто анекдотичными. Так, в октябре 2018 года на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи министр культуры РФ Владимир Мединский заявил: «Есть ли в русской культуре, русском обществе запрос на консерватизм сегодня? Да, есть. Люди хотят духовной, нравственной стабильности, хотят понимать, что такое хорошо, что такое плохо, поэтому апеллирование нашей российской власти к традиционным ценностям, к разумному здоровому консерватизму находит отклик в 90% аудитории, остальные 10% не откликаются исключительно из вредности, потому что, по сути, возразить особо нечего».
При этом те, кого Минкульт считает современными консерваторами, в реальности не пользуются популярностью. Пустуют музеи художников Шилова и Глазунова, заполняемость МХАТ им. Горького с Татьяной Дорониной во главе крайне низка. И наоборот ― на радикальную акцию новосибирского художника Артема Лоскутова «Монстрация» (первомайская демонстрация с абсурдистскими лозунгами) приходят тысячи людей не только в Новосибирске, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Петрозаводске, Красноярске, Томске, Омске, Хабаровске, Ярославле, Тюмени, Кандалакше, Нижнем Новгороде, Орле, Пензе, Курске и др.
Можно вспомнить об опыте первых лет советской власти. Тогда в Наркомате просвещения ключевые посты занимали именно авторитетные эксперты, что привело, например, к расцвету знаменитого русского авангарда, творческого направления, не только повлиявшего на все мировое искусство, но и определившего визуальный образ ХХ века в целом. В отделе ИЗО Наркомпроса работали тогда К. Малевич, В. Кандинский, А. Родченко.
Отдел ИЗО петроградского Наркомпроса в 1918–1919 годах возглавлял выдающийся эксперт, искусствовед Николай Пунин. В новейшие времена экспертное сообщество практически без участия государства инициировало мощнейший сетевой проект ― фестиваль и национальную театральную премию «Золотая маска». Долгие годы это был самый спонсороемкий проект в истории России. Эксперты «Золотой маски» не только отбирают лучшие спектакли. Они практически возродили единое театральное пространство России, гастрольную деятельность, восстановили коммуникацию между профессионалами ― от Калининграда до Владивостока. Такие модели и являются либеральным ответом на вопрос об оптимальной модели поддержки и саморегулирования сферы культуры и искусства.
Александр Гнездилов начал с того, что, на его взгляд, не существует конфликта культуры как традиции и свободы как инновации. Свобода, безусловно, необходима и для традиции, и для инноваций, поскольку, когда нет свободы самоопределения по поводу традиции (или инноваций), тогда патерналистское государство само за всех решает, сбросить Пушкина с корабля современности или канонизировать его и уничтожить современное искусство. С этой точки зрения имеет смысл рассуждать о противостоянии, конфликте культуры и искусства. Для плодотворного конфликта, который служит во благо, а не во зло, как раз и нужна свобода как основополагающее условие.
Есть множество определений культуры. Наиболее операциональным представляется следующее: культура ― набор норм и образцов в разных сферах. Есть культура гончарная, промышленная, политическая, есть культура поведения. В русском языке слово «искусство» ― однокоренное со словами «искушенный», «искус», «искушение», «искусный». Можно сказать, что искусство есть искушение выходом на новую территорию, попытка пересмотреть нормы и образцы, вытеснить их, заменив чем-то новым.
Тут применима метафора замка. Культура ― это зáмок, на его стенах ― бойцы, эти самые культурные нормы, которые обороняют стены замка от нападающих на них со всех сторон захватчиков-инноваторов. Большинство осаждающих замок останутся на подступах, это феномены искусства, которые не останутся в культуре. Но те немногие, кто ворвется в крепость, сами встанут на башни и будут защищаться. То есть сами со временем станут новыми культурными нормами. Пример такой трансформации ― борьба искусства за сексуальное раскрепощение. Сегодня мы наблюдаем, как эта культурная норма, утвердившаяся с таким трудом, вытесняется радикальным феминизмом.
То, что вчера было радикальной инновацией, сегодня рассматривается как норма, а завтра станет архаикой. Поскольку это процесс объективный, необходимо понять, какое отношение к нему имеет государство. Представляется, что задача государства ― создавать условия для того, чтобы этот плодотворный конфликт развивался свободно, чтобы традиция самостоятельно, без административной патерналистской поддержки доказывала свою жизнеспособность в открытой борьбе. Если среда, в которой разворачивается этот конфликт, недостаточно конкурентна и свободна, сами традиционные ценности девальвируются. Что и произошло в России с такой ценностью, как патриотизм.
Не стоит ожидать зрелости от общества, если государство защищает его от борьбы старых и новых культурных ценностей. Результат такой охранительный политики ― общественный инфантилизм. В рамках либерального подхода к политике в сфере культуры и искусства государство берет на себя роль арбитра, но не ментора. Именно такой видели роль государства классики немецкого либерализма и социального рыночного хозяйства Вильгельм Рёпке и Людвиг Эрхардт. Тут важно иметь в виду, что искусство и культура в высшей степени специфические рынки. Механический перенос на культуру рыночных норм невозможен.
Два примера из жизни российского театра, иллюстрирующие этот тезис. Не так давно была проведена очень важная реформа госзакупок, установившая, что государственные учреждения образования, культуры и здравоохранения должны осуществлять закупки через тендеры, если цена контракта превышает некоторую небольшую сумму. Проблема в том, что после принятия соответствующих законов ситуация с размещением государственного заказа, к примеру, на проведение юбилея театра Вахтангова стала совершенно абсурдной.
Театр Вахтангова подает заявку, обязуясь провести свой юбилей за 2 млн рублей (сумма госконтракта), и при этом уговаривает поучаствовать в тендере Московский Художественный театр. МХТ соглашается и предлагает свои услуги по организации юбилея театра Вахтангова за 50 млн рублей. Естественно, театр Вахтангова выигрывает. Таким образом, в результате внедрения в культурную сферу на первый взгляд рыночной либеральной процедуры возникает бессмысленная бюрократическая ситуация, чреватая злоупотреблениями, лишними затратами и коррупцией.
Второй пример связан с процессом по делу Седьмой студии (Кирилла Серебренникова). Дело в том, что многое в театре трудно оценить по конкурентной процедуре, по рыночным правилам. Седьмая студия купила рояль. А по законам рынка услуг за бюджетные деньги можно было рояль только арендовать, выбрав на рынке лучшего партнера. В связи с этим следователи, ведущие уголовное дело Серебренникова, Малобродского, Итина и Апфельбаум, считают покупку рояля нарушением закона, хотя очевидно, что аренда инструмента на 200 спектаклей обошлась бы намного дороже разовой покупки.
Обсуждаемые сюжеты тесно связаны с вопросом о роли искусства и культуры в жизни общества. Либертарианский взгляд предполагает, что искусство исключительно частное дело художника и его аудитории. Но так ли это? Либералы должны внимательнее отнестись к пониманию того, что важнейшая функция культуры ― передача в сжатом виде огромного социального опыта, накопленного человечеством. Нам не нужно убивать людей ради удержания власти, чтобы убедиться, что ни к чему хорошему это не приводит. Достаточно посмотреть шекспировского «Макбета». Благодаря искусству общество гуманизируется, становится более безопасным, в нем вырабатываются эмпатия, сочувствие, толерантность, понимание другого.
В связи с этим возникает вопрос об оптимальной модели государственной культурной политики. Представление о том, что существуют только две такие модели ― американская и европейская (последняя реализуется в России) ― справедливо, когда речь идет о государственном финансировании. Но культурная политика ― это не только модель финансирования. Ее вектор зависит от принятого в обществе взгляда на миссию искусства и культуры. Так, искусство зарождалось в древности как религиозная церемония, а позднее выполняло функцию придворного увеселения. Можно понимать искусство как шоу-бизнес, существующий в конкурентной рыночной экономике. В тоталитарные времена искусство и культура в целом считаются главными инструментами пропаганды. Культура есть общественное благо ― такой либеральный подход уже был обозначен в дискуссии. В России институциональная база пропагандистской культуры во многом сохранилась с советских времен и была с легкостью отмобилизована в наши дни. Об этом подробно говорил Анатолий Голубовский.
Российская власть сегодня абсолютно уверена в том, что получение денег от государства обязывает культуру (искусство) обслуживать государство, выполнять государственные задачи. При этом само это финансирование вовсе не рассматривается как общественное. Деньги на культуру не средства налогоплательщиков, которые государство просто ответственно перераспределяет, а, как характерно сформулировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, «государевы деньги». Европейский же опыт свидетельствует о том, что существуют действенные механизмы, защищающие культуру от поползновений государства превратить ее в инструмент пропаганды и сохраняющие при этом государственное финансирование.
Каковы же могут быть формы культурного менеджмента, который дает культуре гарантии и поддержки и независимости одновременно?
В целом ряде стран министерства культуры как такового нет. Но везде, где есть государственное финансирование этой сферы (а в той или иной форме и объеме оно присутствует везде, даже в США), существует госорган, который за это отвечает. Поддержка культуры может быть передана на региональный, земельный уровень, как в Германии. В Японии Министерство образования ответственно за культуру (кстати, в первые годы советской власти она тоже входила в компетенцию Наркомата просвещения). Без бюрократического органа, похоже, не обойтись. Весь вопрос в его функциях, полномочиях и ответственности.
В ситуации неограниченных полномочий и безответственности чиновников возможны эксцессы. Приведем пример того, как небольшая поправка в закон (в данном случае регулирующий деятельность в области кино) привела к настоящему бюрократическому произволу. С середины 1990-х годов началась практика выдачи прокатных удостоверений, которые поначалу только удостоверяли, что у производителя и прокатчика все в порядке с авторскими и иными правами.
Несколько лет назад в закон была внесена поправка, фактически запрещающая публичные показы видеопродукции без прокатного удостоверения. Обязательность прохождения этапа получения этого документа в Министерстве культуры открыла поле для произвола государственных чиновников и привела к появлению списка фильмов, показывать которые в сетях кинотеатров не разрешено. Эта поправка превратила Минкульт в цензурный орган. А цензура в России запрещена Конституцией. Применительно к некоторым фильмам (например, к британской картине «Смерть Сталина») Министерство даже не сформулировало конкретных претензий ― просто не выдало прокатного удостоверения.
Что же может служить гарантией от бюрократического произвола при материальной поддержке со стороны государства?
Важно понимать, какие вопросы ставит государство в документах по культурной политике ― институциональные или идеологические. Что правомерно ― финансированием принуждать художника выдавать предопределенный государством результат или создавать условия для свободной творческой самореализации в виде открытых площадок? Для либерала ответы на обозначенные вопросы очевидны.
В связи с этим возникают два направления работы. Одно ― демократизация и либерализация государства, второе ― огромная работа с обществом, направленная на формирование среды, благоприятной для адекватного восприятия современного искусства, для выработки собственных оценок, пусть даже критических, среды цивилизованной коммуникации по поводу культуры.
Нужна диверсификация источников финансирования, обеспеченная созданием благоприятных условий для спонсорства и меценатства. Кроме того, принципиально важным является привлечение экспертного сообщества к оценке и выработке внятных критериев при распределении финансовых ресурсов. В России не урегулирована ситуация с экспертными советами. Существуют проблемы с их статусом и авторитетом, регулярностью ротации, гласностью их работы, репутационной ответственностью за производимый выбор и т.п.
Одна из гарантий защиты от государственного вмешательства в жизнь культуры ― обеспечение ее общественной поддержки и защиты. Этого можно достигнуть работой с местными темами и местными сообществами, а также снятием напряжения по поводу языка и тематики современного искусства. Что непросто, поскольку широкая аудитория, невротизированная государственными СМИ, склонна не к рефлексии, а к релаксации.
Исходя из опыта этих лет модель, которая представляется ему оптимальной, ― невмешательство государства в жизнь искусства и культуры. Успешный опыт «Монстрации», конечно же, свидетельствует о том, что неприятие публикой современного искусства ― миф, и не более того. А распространение этого мифа и атаки на современное искусство ― возможность для политиков определенного толка без особых усилий заработать символический капитал, необходимый для укрепления аппаратных позиций или продвижения по служебной лестнице. Если консервативному активисту или функционеру нужно заработать карьерные очки, он зачастую напоминает о своем существовании шумной атакой на современное искусство. Обычно это вполне безопасно для атакующих, они не получают отпора. Такие атаки могут происходить в более или менее приличной форме критики, как это было с «Тангейзером» в Новосибирской опере, или в неприличной форме физической агрессии. Параллельно с конфликтом по поводу «Тангейзера» в Новосибирске происходили нападения на зрителей и участников рок-концертов. Совершенно безопасные и давно разрешенные рокеры вообще уже никого не интересуют, и потому атаковать их легко и безопасно. Сдачи никто не даст, закон их защищать не будет.
Триумфальный путь консервативно-православного активиста Дмитрия Энтео (Цорионова) закончился после вандальных действий на выставке Вадима Сидура в московском Манеже. Но ответная реакция власти (Энтео получил 10 суток ареста) была связана с тем, что он в данном случае переступил черту дозволенного, ведь Манеж ― главный государственный выставочный зал.
Подобные эксцессы происходят постоянно. Не так давно на «Винзаводе» в Москве какие-то совершенно безумные активисты атаковали выставку сибиряка Василия Слонова. Есть еще так называемое русское освободительное движение SERB. Они обливают произведения искусства чем-то вроде мочи, что-то рушат и при этом остаются совершенно безнаказанными. Есть ощущение, что все эти активисты на самом деле боевой отряд власти, который действует иногда по ее прямому поручению, иногда при попустительстве или под прикрытием. В Новосибирске это было вполне очевидно. Руководству местного МВД, раздраженному действиями руководителей «Монстрации», было удобно попросить православного активиста написать на них жалобу, а потом с ней работать как с сигналом от «возмущенной общественности».
Существует еще одна проблема, связанная с государством. Даже если художнику удается действовать независимо и не ждать госфинасирования, ему бывает трудно противостоять попыткам власти перехватить удачный проект, сделать его как бы своим, присвоить. Так, государство в определенный момент поняло, что оно не может ни игнорировать «Монстрацию», ни влиять на содержание акции. Тогда было решено к ней присоединиться. Сотрудники регионального Министерства культуры сами стали писать на рулонах обоев абсурдные лозунги, выдавать их своим подопечным под подпись, отмечать, кто транспаранты получил. На первомайскую демонстрацию с лозунгами в духе «Монстрации» пришли чиновники. Художник мог бы порадоваться этому. Но сразу стало понятно, что, если государство возьмет в свои руки организацию такого рода мероприятий, они быстро прекратят свое существование.
Таким образом, невмешательство государства в культурную жизнь ― единственная потребность культурных активистов.
Что касается финансовой поддержки со стороны государства, то оптимальной выглядит литовская модель, которая дает возможность каждому гражданину раз в год направлять несколько процентов от своих налогов на культурные или социальные проекты по индивидуальному выбору ― на развитие сети детстких садов, на местную галерею, на театр и т.п. Для России такая модель кажется пока очень отдаленной перспективой.
и следите за обновлениями!
Председатель Общероссийского общественного движения «Выбор России», политик, член Координационного совета Экспертной группы «Европейский диалог»
Например, все прекрасно знают, какую значимую роль играют так называемые евангелисты в США, активно поддерживающие радикально консервативные взгляды части американских республиканцев. Известно, что они отрицают теорию Дарвина, призывают отменить изучение теории эволюции в государственной школе, то есть активно вмешиваются в те дела, которые должны быть в руках государства и общества, но никак не церкви.
Другой характерный случай — Польша. Это католическая страна, польская католическая церковь времен папы Иоанна-Павла II была проводником свободы и во многом помогла сокрушить польский коммунизм. Но сейчас та же католическая церковь в Польше является опорой реакционной партии Качиньского. Та самая католическая церковь, которая помогала утверждать свободу в Польше, сейчас вместе с государством ее душит.
Мы видим также тесное слияние церкви (РПЦ) и государства в России. Об этом много пишет и говорит Сергей Чапнин, другие специалисты. Русская православная церковь получает от государства огромную материальную и финансовую помощь. Только из последних новостей: при участии Правительства России проектируется создание «русского Ватикана» в подмосковном Сергиевом Посаде. Это гигантский проект строительства так называемого национального духовного центра. Церковь уже получила в пользование объект культурного наследия ЮНЕСКО ― Новодевичий монастырь в Москве, претендует на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге и т.п. В свою очередь, государство получает серьезную идеологическую и политическую поддержку со стороны РПЦ, первые лица государства прямо ассоциируют себя с Русской православной церковью, посещают богослужения, стоят на солее и, не стесняясь, показывают, что такое сращивание политической власти и церкви на практике.
Если говорить о либеральной модели отношений государства, общества и религии, то, возможно, это модель Германии. В нашей дискуссии участвуют несколько экспертов из Германии — мы обратимся к ним с вопросом: может ли германская модель быть образцом либеральных взаимоотношений церкви и государства, общества и церкви? Есть французская модель, которая ведет свой отчет от Великой французской революции, в ней церковь отодвинули далеко от государства и с тех пор не дают ей придвинуться обратно. В общественной и политической жизни Франции церковь не играет заметной роли. Есть католическая Италия, и нам не вполне понятно, какую роль церковь играла там в последних событиях, и т.д. Виктор Орбан в Венгрии еще один значимый европейский кейс, католическая церковь там выступает на стороне Орбана, как можно судить, и тоже является одним из факторов отката Венгрии от свободы.
Словом, в прекрасном идеальном либеральном мире религия и церковь должны быть отделены от государства, а вера должна быть частным делом каждого человека. На практике, как мы видим, все идет совершенно не так, и даже последний громкий скандал — автокефалия Украинской православной церкви — показывает, насколько могут быть политизированы церковные вопросы в современном мире.
Предлагается обсудить вопросы, которые имеют прямую связь с политикой государства и жизнью общества. Действительно ли церковь несет свою долю ответственности за крепнущие консерватизм, нетерпимость, ксенофобию, национализм и изоляционизм? Является ли значимой проблемой видимое сращивание церкви и государства в России? Действительно ли религия и церковь стоят в оппозиции к либеральной демократии и либеральной идеологии? Действительно ли либерализм и религия, либерализм и церковь ― непримиримые оппоненты, если не враги? Что в этой ситуации делать либералам и как либерализм должен реагировать на эти вызовы? Действительно ли религия ― и христианские церкви, и исламская умма — по своей природе несовместима со свободой? Могут ли вера, религия и церковь, наоборот, стать частью движения к свободе и к либеральной демократии? Принципиальный вопрос: какова идеальная модель с либеральной точки зрения сосуществования веры, религии и церкви с государством, какое место должны занять религия и церковь в объединенной Европе?
Уральское отделение РАН, Ассоциация российских религиоведческих центров, доктор философских наук
Во-вторых, мы часто и по разным поводам ссылаемся на опыт других государств. Мы говорим, что в одном государстве со свободой совести все прекрасно, а в другом не так прекрасно и хорошо бы сделать так, чтобы и в России тоже все было прекрасно. На самом деле история нашей страны, особенно последнего времени, показывает, что заимствовать чей-то опыт бессмысленно, потому что все происходит в конкретном историко-культурном и социальном контексте. То, что хорошо и правильно в одном случае, совершенно невозможно применить в другом. В Конституции Российской Федерации также зафиксирован принцип свободы совести, но это не значит, что он у нас реализуется так же, как в других странах, потому что существует множество исторических и иных причин, которые этому препятствуют в психологическом, культурном ― в каком угодно смысле.
Даже если отбросить конъюнктурные идеологические и политические причины тех проблем, которые возникают в связи с осуществлением этого принципа, то все равно его реализация оказывается затруднительной, потому что у многих наших граждан нет ощущения принципиальной ценности свободы совести ― не потому, что у них нет совести, но потому, что они не умеют ясно формулировать свои собственные убеждения, тем более когда те сформированы под влиянием различных источников в ситуации мировоззренческого бриколажа из несвязных отрывков часто взаимоисключающих идей, который мы воспринимаем в последние два десятка лет.
По поводу историко-культурного контекста приведем один пример. Если мы посмотрим на прекрасные, свободные в религиозном смысле страны, например скандинавские, то увидим, что в них осуществление принципа свободы совести определяется культурной и политической традицией, в которой государство должно служить земным воплощением христианского идеала общества, основанного на соответствующих моральных и вероучительных принципах. В силу этого понятие о государственной церкви и природа секулярности имеют в Скандинавии совершенно другой смысл, чем у нас. Но это может привести и приводит к ситуациям, которые с религиозной точки зрения могут быть восприняты как искажение христианства. Так, в Дании лютеранская церковь ― Церковь датского народа, которая является государственной в соответствии с Конституцией, не так давно должна была в силу своего государственного статуса согласиться с принятием парламентом акта об однополых браках и осуществлять венчание однополых пар, потому что в противном случае она могла потерять право юридической регистрации браков.
Эта ситуация расценивается неоднозначно ― одни считают, что церковь проявила толерантность, соответствующую современным социальным нормам и ценностям, а другие ― что она была вынуждена подчиниться государственным, то есть сугубо светским, интересам. Таким образом, примеры других стран и обществ всегда нужно рассматривать конкретно и заранее предполагать, что даже самые лучшие либеральные принципы у нас могут реализоваться иначе, чем это происходит там.
Третий тезис, выдвинутый выше, заключается в том, что либерализм считает религию частным делом. Однако, как мне представляется, в реальности практически невозможно «разделить» жизнь человека на частную и публичную. Это чисто теоретическое различение, согласно которому человек у себя дома или в специально отведенном для этого месте исповедует какую-то религию, а выходя на улицу, превращается в светского гражданина, потому что живет в светском государстве. Но это не так. Человек всегда один и тот же и дома, и на улице, и в чистом виде никаких частных убеждений не существует, поскольку всякие убеждения неизбежно влияют на поведение и представление своей точки зрения в публичном пространстве.
Сегодня самая важная проблема ― это проблема диалога, то есть того, как могут общаться между собой люди, являющиеся приверженцами разных религий, и того, каким образом можно преодолеть или решить основную проблему этого диалога, когда каждый верующий считает свою религию единственно истинной. Впрочем, то же самое свойственно и многим людям, придерживающимся светских мировоззрений. Над этой проблемой давно бьются лучшие умы человечества, и по этому поводу существует множество теорий. Но пока основная позиция такая: реальный диалог возможен только на нейтральной почве, то есть на почве принципов и правил светского государства, а там, где общаются люди верующие, подлинного диалога сплошь и рядом не получается, или он получается только там, где есть какие-то общие светские основания либо политические причины для того, чтобы этот диалог осуществился. На самом деле проблема заключается в способности принять религию другого, не отказывая при этом собственной религии в праве на истинность.
И последний тезис: несмотря на очевидную тенденцию по навязыванию одной религии (да еще по этническому принципу) в качестве единственно приемлемой для граждан современной России, в жизни все получается не совсем так. Для многих людей православие в России играет сегодня роль сакрального агента по связи земного с небесным. Это должно привести людей к ощущению, что в нашем мире все не так уж безнадежно, потому что есть инстанция, которая в конечном счете обеспечивает возможность выпросить у высшей силы индульгенцию на те или иные действия или надеяться на то, что справедливость когда-нибудь восторжествует: как сказал поэт, «но есть и Божий суд». На самом деле людям, по их природе, присутствие сакрального начала необходимо, что и объясняет склонность к православию большого количества людей, которые по-настоящему имеют самое смутное представление о своей вере. Конечно, большую роль играют реальные или мифологически истолкованные исторические корни, культура, традиции и т.п.
Тем не менее постоянное присутствие в публичном пространстве религиозной тематики, например в виде обсуждения украинской автокефалии, приводит к очень любопытным результатам. Люди, которые никогда особо не задумывались о проблемах веры и устройства церкви, начинают всем этим живо интересоваться. И самое удивительное, что именно в атмосфере таких дискуссий они открывают Евангелие и вдруг обнаруживают, что написанное там совсем не соответствует тому, что происходит во всех этих острых политических спорах о церковном устройстве. Для многих это оказывается важным открытием. Либералам полезно исходить из принципа, что все, что ни делается, делается к лучшему. В том числе это касается и ситуации с разделением церквей, потому что в итоге она может привести наших граждан (пусть и не всех) к новым размышлениям и выводам. Главная характеристика этого созидатального процесса заключается в том, что религиозные поиски становятся индивидуальными.
Для людей основным постепенно становится вопрос о том, личный ли это выбор или же он навязан им сверху, неважно, церковным авторитетом или традицией. Это и есть основа и перспектива либерализма в сегодняшних условиях ― чтобы люди начали думать и выбирать сами.
Во-первых, мы боимся того, что неизвестно, что не знаем, кто мы сами: верующие или неверующие? Во-вторых, мы постоянно боимся обидеть чувства верующих. И при этом постоянно смешиваем, путаем веру и религию. Вера иррациональна и алогична: я верю, а ты не веришь. А все остальное — это религия, то, что создавалось людьми в разное время и по разному поводу. Это, в конце концов, политическая конъюнктура. Когда начинается разговор о религии, мы вправе поставить рядом такое понятие, как идеология. Уточню: религиозная идеология. При этом все создается, все развивается, все трансформируется под влиянием конкретных социально-экономических и политических условий. Поэтому, когда начинаются попытки разобраться в религии, не надо писать ее с большой буквы. Чаще всего мы имеем дело именно с идеологией. Если не нравится, можно сказать так: мы имеем дело с интерпретациями религии, а интерпретации даются самые разные. Одно дело в России, другое — в Германии, в мусульманском мире и т.д. То есть с чем мы на самом деле работаем? Мы работаем с такими же аналитиками, как и мы, только для них религия ― это инструмент, форма самовыражения. Это касается даже богословия, потому что и оно всего лишь типичная интерпретация чего угодно и как угодно.
Кроме того, религия всегда была обмирщена, секуляризована. Где-то больше, где-то меньше. Часто говорят, что более всего был обмирщен и инкорпорирован в общественную и общественно-политическую жизнь иудаизм. Но христианство и особенно ислам с этой точки зрения идут по тому же самому пути. На подобное заявление обычно обижаются и христиане, и особенно мусульмане, тем не менее, если мы посмотрим на историю, тот же шариат, который развернут и в политику, и в экономику и так далее, многое из иудаизма заимствовал.
Поэтому в религии как в феномене ничего сакрального нет. Она должна изучаться так же рационально и жестко, а может быть, даже еще более жестко, чем любая иная идеология. Конечно, это крайне трудно сделать, потому что, как только мы ее начинаем изучать, мы вплотную подходим к проблеме веры и волей или неволей кого-то можем обидеть. Допустим, мы обвиняем в чем-то конкретном Русскую православную церковь (про ислам вообще не говорим — там, как известно, все кругом виноваты), но как найти ту грань, за которой начинается обида? Думаю, это практически невозможно, и потому мы — особенно те, кто выступает с позиций либерализма, — обречены постоянно находиться в промежуточном состоянии: изучаем-изучаем, но, как только подходим к проблеме совести, звучат возмущенные голоса: «Это мой Бог! Я в него верю!» Здесь всегда можно кого-то обидеть.
Нужно согласиться с Еленой Степановой в том, что либералы обязаны подталкивать людей к диалогу, хотя это очень трудно. Не будет широкого диалога, но пусть будут хотя бы его элементы, потому что альтернатива диалогу — крестовые походы, джихад, насилие. И скажем прямо, на самом деле это чистая политика, но удачно покрытая покрывалом то ислама, то христианства, то буддизма и проч.
Очень трудно все это изучать. Религиоведы в России всегда находятся под ударом: по поводу каждого их высказывания тут же возникают претензии ― ты оскорбил то ислам, то православие. Нужно быть к этому готовым и не оправдываться. Алексей Малашенко почти 50 лет занимается исламом и успел побывать за это время и исламским экстремистом, и исламофобом. Как только начинаешь говорить о предмете честно и откровенно, обязательно кого-нибудь задеваешь. Это в полной мере относится и к православию.
На вопрос о совместимости либеральных ценностей и религии можно ответить так: и да и нет. Любой может привести примеры. Есть исламская демократия? Есть. Например, Иран. Как бы к нему ни относиться, там больше демократии, чем в России. Однако когда мы говорим о правах человека в исламе — что, кстати, записано в уставе организации «Исламская конференция», — то лишь разводим руками и не понимаем, что же это такое. В ответ вновь звучат обвинения: «Ах, ты не понимаешь? Значит, ты нас хочешь оскорбить. У вас свои права человека, плохие, либеральные, а у нас — исламские, хорошие». Как здесь быть? Несложно доказать, что «исламские права человека» не более чем миф. Но если очень попросят, то можно доказать, что они лучше, чем либерально-христианские права человека. Весомые аргументы давно любовно подобраны с обеих сторон. Крайне сложно с этих позиций вести содержательный диалог.
Об отделении религии от государства. Мы живем в постсекулярном мире. Нравится нам это или не нравится, но такая тенденция ярко выражена. Надолго это или религии со временем будет больше в государственной политике? А что, религию можно вытолкнуть из политики? Невозможно, это с нами навсегда. В том числе и в либеральных государствах. С этой точки зрения любая «красивая религия» — важная часть большого социокультурного и этнокультурного контекста. Это может быть ландшафт национальный, региональный, мировой. Кроме того, это политический инструмент, который все активно используют. Кто-то вполне искренне. Кстати, в мусульманском мире это делается искренне, в отличие от некоторых христианских стран, где куда больше жульничества.
Вполне верится в искренность исламистов, исламских фундаменталистов. Да, они нехорошие, жестокие, но в целом честные люди. Однако их восприятие мира, их идеология, взгляды на роль государства, на демократию очень своеобразные. Попробуй только сказать им что-то против исламского государства. Да, это государство ― утопия, но поди докажи это его сторонникам. Когда они сравнивают исламское государство с коммунизмом, с Советским Союзом, то какой применяют главный критерий? Ту идеологию создал Карл Маркс, к тому же еврей, а вот исламское государство от самого Аллаха идет. Это наверняка! А как же можно в Аллахе сомневаться?! Никак нельзя. И все наши рациональные аргументы могут быть даже и выслушаны, но все равно с этой точки зрения вера для них оказывается на порядок выше, чем религия. В религии есть логика. В вере ее нет. Я верую, а вы чем хотите, тем и занимайтесь.
Делать конкретные выводы не имеет смысла, но следует искать и находить пространство для общения. Диалог должен сохраняться, чтобы его участники не переходили ту грань, где начинается ненависть. Религиозная вражда и политическая вражда идут рука об руку. Когда-то мы предсказывали исламское государство в том виде, какой пугает в наши дни весь мир, и все нам в ответ говорили, что мы сошли с ума. Но, как выяснилось, не сошли. Что же нам остается? Наша задача мягко, рационально, в силу наших весьма ограниченных возможностей сдерживать непонимание и взаимное раздражение и пытаться наладить диалог.
Депутат германского Бундестага от СвДП
Что-то похожее мы наблюдаем и в Германии, где живет немало людей из семей мигрантов с Ближнего Востока. Можно было предположить, что для третьего поколения мигрантов религия не будет играть большой роли, однако есть очевидные факты: и в третьем, и в четвертом поколении мигрантов религия переживает ренессанс. Религия в жизни многих молодых людей из марокканских, турецких, иракских семей играет гораздо более важную роль, чем в жизни их родителей. Как с этим быть?
Один пример. Президент Турции Реджеп Эрдоган относится к той категории политиков, которые осознанно обращаются к турецкому сообществу за пределами своей страны, призывая их оставаться турками и по возможности не интегрироваться в европейские общества. Для немцев это большая проблема. Во время государственного визита в Германию Эрдоган участвовал в открытии мечети в центре Кёльна. За 10–15 лет до этого события состоялись дебаты, на которых речь шла о том, что вот будет построена центральная мечеть для крупного города Кёльна в качестве места встреч, интеграции, примирения и дружбы, то есть все затевалось ради прекрасных либеральных идеалов. А что получилось на практике? В самом центре Кёльна состоялся партийный съезд эрдогановской АКП. Те немецкие политики, кто активно поддерживали проект, начиная с обербургомистра Кёльна и других, не были даже приглашены на это мероприятие. Практически всех их отодвинули в сторону, а девиз организаторов был очевиден: «Мы занимаемся здесь своими делами».
На этом примере хорошо видно, насколько тесно связаны между собой внешняя и внутренняя политика Турции. В последние годы эта страна сильно изменилась, и религия в ней играет все более заметную роль. Естественно, это связано и с внутренней политикой Германии, потому что политик, когда он выступает так, как выступал Эрдоган, пытается поляризовать или даже расколоть общество в Германии. Как же нам со всем этим быть? В Германии ведутся энергичные дискуссии на эту тему и в обществе, и в Бундестаге. Я не хочу сказать, что эта дискуссия бесплодная, но проходит она очень эмоционально.
Связано это прежде всего с кризисом, вызванным огромным притоком беженцев в 2015 году. Есть политики, которые говорят, что сейчас нужно разрабатывать оппозиционные концепции. Есть политики, которые хотят дискутировать на тему так называемой доминирующей (то есть немецкой) культуры. Есть политики, которые просто требуют, чтобы в школы и другие общественные места были возвращены христианские распятия. В любом случае эти дебаты носят не только практический, но и символический характер. Чем все это закончится, никто не знает, но факт остается фактом: тема действительно стала болевой точкой для германского общества. Хотим мы того или нет, но мы должны будем вести дискуссию о том, какие ценности для нас важны и обеспечивают подлинную сплоченность нашего общества. Естественно, что наши ценности, наша культура имеют иудейские и христианские корни. И вместе с тем сейчас в Германии возникло очень пестрое общество. Ислам сегодня тоже часть Германии. Такова реальность.
Но что такое ислам в Германии? Если начать дискуссию, то понадобится весьма дифференцированный подход. Ислам как религия и мусульмане, которые живут в Германии, которые хорошо интегрировались, естественно, являются нашими гражданами. Но политический ислам или те, кто считает, что можно жить в Германии и не считаться с ценностями нашего общества, столь же естественно к Германии не относятся. Эта дискуссия будет продолжена и в последующие годы в таком же остром ключе. Однако у нее есть и позитивная сторона: мы можем больше говорить о нашем Основном Законе, о конституционном патриотизме в Германии. Наша Конституция не имеет религиозных основ. Наша Конституция ― республиканская, и она предлагает прекрасный общий знаменатель для общественной жизни в Германии.
В целом проблема, или, лучше сказать, тема религии, является приоритетной и связана со многими аспектами жизни общества. Самое важное ― постараться выстроить качественную миграционную политику и прежде всего подчеркнуть, что те, кто приезжают в Германию, те, кто хотел бы остаться в Германии надолго, должны осознавать, что они живут в ответственном обществе, где есть определенные ценности и представления. Тот, кто отвергает эти ценности, тот не может жить в Германии. Тот, кто приезжает в Германию только для того, чтобы получить экономические преимущества и одновременно отвергает религиозный плюрализм и толерантность, не может стать частью нашего общества. Возможно, в прошлые годы мы что-то упустили, так как не говорили об этом достаточно четко, и теперь особенно важно сделать на этом акцент, потому что подобные аспекты играют гораздо бóльшую роль, нежели мы себе представляли прежде.
Говоря о ценностях, я вспоминаю дебаты о том, можно ли принять Турцию в ЕС.
Приводились важные экономические аргументы, говорилось, что Турция ― это огромный рынок, прекрасный экономический потенциал, а кроме того, это партнер по НАТО и поэтому Турцию необходимо принять в ЕС. Но звучали и другие голоса, которые предостерегали: ничего не получится, потому что в Турции господствуют совсем другие ценности. Если посмотреть, как Турция развивается при Эрдогане в последние годы, то нельзя не признать: правы были те, кто говорил, что Турция и Европа имеют разные представления о ценностях, и именно потому Турция г-на Эрдогана не может войти в Европейский союз. Кстати говоря, и политическая и экономическая повестка Турции тоже не совпадает с европейской.
Выступающий заметил, что он знает множество людей в Германии с детства, поскольку он вместе с ними вырос, и прежде они никогда не спрашивали, к какой религии он принадлежит. Теперь же вдруг для них это стало важным и они часто спрашивают: «Ты к какой конфессии принадлежишь, к какой религии?»
У Германии всегда был положительный опыт сосуществования разных религий: лютеранская церковь, католическая. Не было такого жесткого разделения, как во Франции. Религия в Германии и церковь как общественный институт действовали всегда очень конструктивно, активно участвуя в общественной жизни. Тема религии здесь никогда прежде не была такой острой, не сопровождалась такой ожесточенной общественной дискуссией, как происходит сегодня из-за беженцев и прежде всего из-за событий на Ближнем Востоке. До 2015 года многие считали, что они в ЕС живут на островке спокойствия и безопасности, но после кризиса с беженцами осознали, что далеко не всё в порядке и если они не будут участвовать в разрешении мировых конфликтов, то с этими конфликтами придется столкнуться непосредственно у себя дома. Люди видят эти конфликты и задаются вопросами. Задачей политиков является поиск ответов на эти вопросы.
И в заключение небольшой комментарий к тезису Алексея Малашенко об исламской демократии. Категорически неправильно оценивать Иран как исламскую демократию. Исламская демократия ― это как мясник-вегетарианец, потому что Иран однозначно не демократическое государство. Можно рассказать множество историй, как в Иране людей пытают, сажают в тюрьмы по религиозным основаниям. Вспомним, что существует активное женское движение, которое борется против так называемого исламского дресс-кода. Символом этого движения является женщина, которая на улице сняла хиджаб, и ее приговорили за это к 25 годам тюрьмы. Это никак не согласуется с демократией, но используется как инструмент внутренней политики.
С исторической точки зрения это известный и понятный симбиоз церкви и государства. В начале XXI века Российское государство вступило в тесный союз с православной церковью из прагматических соображений.
Государство мыслит себя новой империей, а церковь в публичном пространстве выступает консервативной силой, хранительницей имперских традиций ― не только духовных, но и политических. Поэтому РПЦ без особого труда встроилась в новую государственную политику, участвовала в ее формировании и оказывала на нее заметное влияние.
Достаточно вспомнить концепции «русского мира» и «традиционных ценностей», ставшие основой собственно церковной и государственной политики на протяжении последних лет. Более того, похоже, что РПЦ просто не знает какой-либо иной модели поведения по отношению к государству. Идеологический и административно-хозяйственный союз с государством ― это единственное, что церковь в лице своей иерархии и бюрократии всегда знала очень хорошо. И после короткой «демократической растерянности» 1990-х годов она с радостью вернулась в объятия государства.
Можно ли это назвать сменой парадигмы? Если брать период церковного возрождения, начиная с 1988 года, то да. Однако на более длительном историческом отрезке это выглядит скорее как возвращение к базовой парадигме, а период 1990-х годов теперь воспринимается как отступление от нее. Патриарх Кирилл не раз говорил в этой связи о «лихих девяностых». С его точки зрения, «лихими» они были по сравнению с 1980-ми, которые иначе как тихими, сытыми и благополучными назвать нельзя. Церковь, точнее высшие церковные иерархи, была полностью встроена тогда в советскую систему, правила игры были определены советским Советом по делам религий, и церковь их соблюдала. «Лихие девяностые» — эпоха, когда рухнули договоренности епископата с советской властью и нужно было учиться жить самостоятельно. Для Русской православной церкви проблема 1990-х заключается именно в том, что это была попытка либерализации не только общества, но и церкви. Примеров либерального подхода к различным проблемам церковной жизни было тогда довольно много.
Во-первых, развивалось мощное стихийное движение мирян, которое захлебнулось к середине 1990-х годов из-за разворота от собственно церковной проблематики к общественно-политической, прежде всего монархической, а затем было фактически запрещено епископатом. Во-вторых, после распада Советского Союза многие епархии на территории новых независимых государств без какой-либо борьбы получили статус автономных церквей. Надо сказать, что Украина стала единственным исключением: РПЦ отказалась удовлетворить просьбу украинского епископата предоставить Украинской церкви автокефалию в 1991 году. Но в остальном 1989–1995 годы продемонстрировали ряд попыток демократизации церкви. Увы, к концу 1990-х эта линия сошла на нет, как только был выбран курс на максимально тесный союз с государством, на выполнение его политического заказа в обмен на финансовую и административную поддержку.
Тесно связав себя с государством, РПЦ не хочет больше быть инструментом и платформой диалога в российском обществе, хотя и готова имитировать этот диалог различными бюрократическим средствами. Более того, церковная иерархия не хочет даже диалога внутри самой церкви. Конечно, есть инструменты имитации диалога. Самый известный среди них ― Межсоборное присутствие Русской православной церкви. Оно состоит из мирян, священников, епископов, в нем представлены интеллигенция и чиновники, правые и левые, но беда в том, что это не рабочий орган. Это орган, который имитирует соборность, имитирует демократию и не является реальным центром формирования контуров даже внутрицерковной политики. Это одна из главных особенностей нынешнего момента ― уверенность в том, что епископат твердо держит в своих руках церковную власть, ему ничто не угрожает и ничего не нужно.
Глубокий внутренний кризис церкви еще не осознан, потому что у РПЦ убедительный имидж большой, консервативной и довольно благополучной церкви. Но что будет в ближайшем будущем? Известный тезис о сконструированных, «заново изобретенных» традициях (invented traditions) в полной мере применим к современному русскому православию. Возродившаяся на рубеже XX–XXI веков Русская православная церковь пошла по постмодернистскому пути, сконструировав для внутреннего использования набор «традиций», не имеющих прямого отношения к тем традициям, которые были в ней, скажем, до 1917 года. Государство это вполне устраивало, так как возрождались не только собственно церковные традиции, но и весь комплекс «имперского православия», включая консервативную православную идеологию. Однако на уровне веры — и здесь следует полностью согласиться с Алексеем Малашенко ― очень важно различать религию как институт и личную веру.
По этой границе прямо сейчас происходят очень интересные процессы. Часть из них можно назвать индивидуализацией, пытливым поиском людьми личной веры. Довольно широкое распространение получило так называемое индивидуальное православие. Оно тесно связано с разочарованием в приходской жизни и с личными духовными поисками в рамках православного образа жизни, с не осознанными во многом попытками преодолеть постмодернизм в православии. Грубо говоря, именно этот круг православных можно назвать церковными либералами в широком смысле слова.
Некоторое время назад один из церковных публицистов назвал этот процесс расцерковлением. Речь идет о том, что значительный процент тех, кто пришел в церковь в 1990-е годы и затем в течение 10–20 лет изучил и освоил обрядовую сторону, почувствовал себя в церкви спокойно и свободно, но этим не удовлетворился. Вопрос этих людей к самим себе довольно простой: «Хорошо, это я теперь умею, а что дальше?» И вдруг оказалось, что дальше делать нечего. Церковь таким людям отвечает: «Главное ты уже сделал, освоил обряды, просто продолжай делать все то же самое». Неожиданно оказалось, что у обряда исчерпано содержание. Это критический момент, в котором сейчас оказалась церковь. Действительно, люди спрашивают: а что, помимо некоего общего авторитета, я могу для себя обрести в церкви? Есть ли в современном православии место для личной веры? К сожалению, на этот, казалось бы, простой вопрос, многие не находят ответа. В этом и состоит главная слабость Русской православной церкви. В таком виде РПЦ совсем не нужна тем, для кого свободный выбор православия как личной веры ― безусловная ценность.
Но здесь важно сказать и о втором состоянии, когда люди, придя в церковь, вполне довольствуются обрядом. Несколько лет назад автор настоящей статьи предложил называть это постсоветской гражданской религией: когда православная обрядность, которую легко усвоить и которую церковь транслирует, довольно органично соединяется с теми живыми традициями, которые сохраняются в российском обществе. Важное свойство живой традиции ― преемственность, уверенность в том, что эта традиция существует на протяжении нескольких поколений и передается от одного к другому. Для российского общества такой живой традицией остается советская традиция. В результате в народной религиозности возникает удивительный сплав православного и советского, который очень удобно эксплуатировать как модель соединения сакрального и патриотического/национального при конструировании новой российской идентичности.
Российский журналист, публицист, обозреватель и ведущий программ на радиостанциях
Второй вопрос: может ли либерал быть верующим человеком? На самом деле это ключевой философский вопрос. Скажем, Людвиг фон Мизес считал, что христианство и либерализм несовместимы. Если бы он говорил об исламе, то наверняка сказал бы приблизительно то же самое. В конечном счете тотально свободный выбор для либерала ограничивается определенным набором взглядов на человеческую личность, на трансцендентное, на наличие, в конце концов, вещей, невидимых в материальном мире. Это вопрос, который никогда не будет разрешен удовлетворительно. Поэтому речь может идти только о сосуществовании, очень продуктивном, возможно, хотя и напряженном сосуществовании, между либерализмом как представлением о человеке как конечной мере всех вещей и религиозным сознанием.
Ситуация, которая складывается ситуация сегодня, сильно отличается от того, что было, скажем, в западном мире 30–40 лет назад. В России, точнее в Советском Союзе, такие дискуссии отсутствовали по понятным причинам. Взлет радикального исламизма, элементы которого напоминают тоталитарные идеологии ХХ века, привел значительную часть западного общества к представлению о том, что любая религия ― это зло. Любая религия с точки зрения секулярного, а по сути, атеистического сознания ведет к появлению фанатично настроенных людей, которые на самолетах врезаются во Всемирный торговый центр и Пентагон. Начинают с проповедей, а заканчивают массовыми убийствами. Ричард Докинз, покойный Кристофер Хитченс думали именно так.
Поскольку значительная часть идейной жизни в России по понятным историческим причинам абсолютно вторична по отношению к Западу, она часто воспроизводит, например на уровне интеллигентов в больших городах, те дискуссии, которые на Западе давно уже стали привычным полем борьбы.
В российском обществе, как и во многих посткоммунистических обществах, сегодня очень трудно быть одновременно верующим и демократом. Кажется, Андрей Золотов очень неплохо написал в 2012 году, в «эпоху протестов», о том, что труднее всего пришлось тогда тем людям, которые испытывали неоднозначные чувства по отношению к акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве. Те, кто был против тюрьмы для Н. Толоконниковой и ее подруг, потому что наказание оказалось несоразмерно их проступку, но одновременно критиковали их пляски на амвоне, были осуждены как представителями патриархии и кремлевским официозом, так и оппозиционной общественностью. Первые говорили: «Вы негодяи, не любите Россию, русский народ и русскую церковь, коли не хотите суда и тюрьмы для участниц Pussy Riot!» А те, кто называют себя либералами, говорили: «Как вы можете их полностью не поддерживать? Как вы можете ходить в этот жуткий имперский храм?!» Быть чужим для всех лагерей ― такова сегодня судьба христианина и демократа, или, лучше сказать, верующего и демократа в России.
Как и на Западе, в России важнейшей становится дискуссия о содержании понятий «свобода слова» и «толерантность». В Европейском союзе и Соединенных Штатах они носят принципиально разный характер. Когда в Европе говорят о свободе слова, становится смешно, потому что есть понятие hate speech, есть масса других вещей, которые, конечно, очень благонамеренно, ради хороших намерений, но все же ограничивают свободу слова.
Но это, строго говоря, уже не свобода слова. А что такое толерантность? Толерантность ― это когда все мнения одинаково равны или же есть всего два мнения, мое и неправильное? В том, что касается абортов, гей-браков, трансгендеров ― речь идет о сути понятия «человеческая личность». Верующий человек воспринимает это понятие иначе, чем человек неверующий. И это не изменить. Так готово ли общество признать право на существование всех мнений, в том числе и тех, что не являются с точки зрения той же New York Times или Der Spiegel «прогрессивными»? Кстати, мнение о том, что теория Дарвина ошибочна, имеет право на существование в публичном пространстве или нет? Я специально привожу такой провокационный пример. Ведь важнейший вопрос как для американского и европейского, так и для российского дискурса ― «кто именно определяет, что разумно и прогрессивно?».
Есть очень много неприятных моментов в так называемых войнах культур — culture wars ― в Соединенных Штатах, но одна вещь в них есть позитивная: в конечном счете ни одно мнение никогда не сможет претендовать на то, что только оно единственное и верное. Потому что Первая поправка к Конституции США надежно защищает свободу мнения всех, включая и тех, чьи мнения не совпадают с мнением мейнстрима в университетах и традиционных СМИ.
Общение в последние годы со студентами, с молодыми магистрантами, аспирантами убедило спикера в том, что мы сильно недооцениваем то, что ждет в будущем Россию.
Идет постепенное вытеснение из политики поколения тридцати-сорокалетних людей, называющих себя прагматиками. Это те, кто даже в оппозиции принципиально не хочет говорить об идеях. Они предпочитают сообщать, сколько они поставили палаток с агитационной литературой, сколько показали в YouTube видео c разоблачениями Владимира Путина или Игоря Сечина и как они борются с местным губернатором. Это все очень правильно и хорошо, даже необходимо. Но следующий вопрос тогда: ради чего все это? Какой, собственно, видят эти люди Россию будущего? Каково их отношение к экономической свободе? Абортам? Роли РПЦ? Пока ответов не слышно.
Но есть, на мой взгляд, новый тренд среди тех, кому двадцать и чуть больше. У тех, кто только вступает во взрослую жизнь, намного больше интереса к большим идеям. Мы стоим на грани появления довольно сильного либертарианского движения в России. Это не значит, что 300 тыс. человек завтра выйдут на Тверскую улицу в Москве с томиками Айн Рэнд. Но в интеллектуальном плане эти люди становятся все более заметными, что для России совершенно естественно. Очень многие молодые люди хотят, чтобы жуткое автортарное государство от них полностью отстало и просто не мешало жить.
Мы также находимся на грани появления на российской политической арене новых левых, которые будут исходить уже из российских реалий, но принадлежать скорее к западному левому мейнстриму, с его вниманием к экологии, социальной справедливости, перераспределению доходов и неомарксистскому пониманию личности.
Мы также стоим на пороге появления новых российских консерваторов. Не в смысле, который привносит в это понятие патриарх Кирилл или Администрация президента, а в понимании (за неимением лучшего примера) интеллектуалов круга National Review в США. И либератрианцы, и будущие российские консерваторы должны и будут обращаться к части городской интеллигенции, к мелкому и среднему бизнесу в российских регионах, которые сейчас никем не представлены на публичной арене. Можно предположить, что либертарианцы и правоцентристы-консерваторы будут иногда сотрудничать, например в вопросах экономического развития или внешней политики, а иногда бороться друг с другом ― по тем же темам абортов или прав ЛГБТ.
Через 10–15 лет в России появятся и устоятся настоящие идейные нарративы. Они вызреют на российской почве среди первого относительно свободного поколения. Они будут одновременно российскими и связанными с глобальными тенденциями. В России также будет намного больше низовой гражданской инициативы. Более активными станут молодые мусульмане, молодые протестанты, которых пока не очень видно в идейной жизни. Кроме того, регионы России очень разные, поэтому дискуссии о том, что важно, а что неважно, будут носить не только общенациональный, но и региональный характер.
Именно после окончания «времени Путина» в открытой дискуссии и будет решаться вопрос о роли религиозных конфессий, сообществ верующих в общественно-политической жизни страны.
Ректор Библейско-богословского института св. апостола Андрея, российский учёный и общественный деятель
Одна из основных идей, которую развивает Чарльз Тэйлор в книге «Секулярный век» 1, заключается в том, что реформа с маленькой буквы — не церковная Реформация, а именно реформа основ бытия западного общества — за последние 500 лет своей работы показывает скорее успех христианской цивилизации, чем ее провал. В процессе развития общества возникают разные течения и лагеря. Религиозная жизнь не исчезает, не отходит на второй план, но бесконечно видоизменяется, представляя различные формы проявления в общественной жизни. Отцы-основатели либерализма XVII–XVIII веков в основном были против религии, с оговорками, но все-таки против. В наши дни, когда мы говорим о фундаментальных основаниях либерализма, один из центральных вопросов можно сформулировать так: свобода противоречит религии или нет?
С точки зрения богословия есть проблема: если всемогущий Господь создает человека, то какая у человека после этого может быть свобода? По большому счету это все игрушки, если Бог дает человеку только то, что есть у Него самого. Здесь оказываются неясны сами основания свободы. Недавно афонский монах Ромило Кнежевич защитил в Оксфорде диссертацию, в которой предлагает новую богословскую концепцию: Бог создает творение, которое должно быть свободным, и, таким образом, оно в себе содержит то, чего нет в самом Боге. То есть Бог человека не из Себя создает. Он создает, будучи всемогущим, человека, который Ему нужен, поскольку Бог предпочитает не монолог, а диалог. И поэтому у сотворенного существа есть свобода, и эта свобода имеет онтологические основания.
В принципе, эта концепция рождается из известной притчи: может ли всемогущий Господь сотворить камень, который Сам не сможет поднять? Игра понятий очевидна, но и ответ известен: «Да, может. Это человек». То есть свободу человека даже всемогущий Бог не может отнять. Иными словами, по крайней мере на богословском уровне никакого противоречия нет ― Бог и свобода человека совместимы, человеческая свобода имеет корни в самом бытии, она существенна для определения человека. Одно из важнейших проявлений человеческой свободы — творчество. Даже святость, как совершенная духовность, не ограничена исключительно следованием по монашескому аскетическому пути исполнения всех христианских заповедей. Святость может проявляться также в создании нового знания, то есть в развитии науки, философии, политики, и в том числе либерализма, в создании новой красоты, то есть в развитии искусства.
Когда мы переходим к реальности и исследуем исторические и общественно-политические процессы, то для нас очевидно, что религия обычно предполагает (и предписывает) консервативный стиль жизни. В итоге мы постоянно видим два общественных лагеря, которые враждуют между собой. Условно говоря, либеральный лагерь и религиозный лагерь. Сергей Чапнин вводит различие между религиозными консерваторами и фундаменталистами, когда требуется обозначить дополнительные градации внутри каждого из лагерей.
Вместе с тем мы видим, что схлестываются разные фундаментализмы: религиозный фундаментализм и атеистический («либеральный») фундаментализм. Когда два таких фундаменталиста пытаются спорить между собой, получается только драка и ничего более. Они не слышат друг друга. В XIX веке Пий IX объявил крестовый поход католической церкви против либерализма во всех его проявлениях, и в 1864 году либерализм был заклеймен. Но с тех пор католическая церковь перешла на новые, куда более терпимые позиции, особенно после Второго Ватиканского собора 1962–1965 годов.
Посмотрим теперь на Восточную Европу. Лет 10–15 назад казалось, что у поляков, венгров, прибалтов, которые, мягко говоря, никогда не любили советскую Россию, переход к постсоветским обществам будет проще и легче. Однако теперь видно, что проблемы там серьезнейшие. Наше общее тоталитарное коммунистическое прошлое сильнейшим образом влияет на всех. В этой связи можно упомянуть данные Pew Research Сenter, крупного американского исследовательского фонда, который за последние годы подготовил великолепные доклады, в том числе по Восточной Европе, по мировому православию, по церковно-государственным отношениям. В этих исследованиях сравниваются православные, католические и секулярные страны: в православных сильнее антизападные и пророссийские настроения, католические более либеральны. Тем не менее мы видим, что происходит сегодня в католических Польше и Венгрии.
В недавней программной речи на их местном «Валдае» Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, выступил против либеральной демократии, но попытался защитить христианскую демократию. «В Центральной Европе, — сказал он, — есть много неправильных представлений, связанных с христианством и политикой. Христианская демократия не призвана защищать религиозные аспекты веры. В этом случае — христианские аспекты веры. Христианская политика означает, что образ жизни, определяемый христианской культурой, должен быть защищен.
Наша обязанность защищать не аспекты веры, а формы бытия, которые в них выросли. Это включает человеческое достоинство, семью, нацию, поскольку христианство не ищет универсальности через упразднение наций, но через их сохранение. Давайте заявим, что христианская демократия не либеральна. Либеральные демократии либеральны, в то время как христианская демократия по определению не либеральна. Она, если угодно, антилиберальна. Либеральная демократия предпочитает мультикультурализм, в то время как христианская демократия отдает приоритет христианской культуре. Это антилиберальная концепция. Либеральная демократия за иммиграцию, христианская демократия против иммиграции. Это опять антилиберальная концепция. И либеральная демократия поддерживает новые формы семьи, в то время как христианская демократия покоится на основаниях модели христианской семьи. Опять-таки, антилиберальная концепция» 2.
Яснее, пожалуй, не скажешь. Здесь ни о каком богословии и даже просто о христианстве нет и речи. Это идеологический конструкт, неприятие новых форм бытия и апелляция к так называемым традиционным ценностям. И в современной России традиционные ценности — это новая (квази)религия со своими ритуалами и жертвоприношениями. Главное здесь, конечно, не сами традиционные ценности ― никто толком не понимает, что это такое, а крестовый поход против Запада с его либеральными ценностями. Если мы говорим о таком конфликте либерализма и религии, то здесь будет столкновение насмерть. Вряд ли диалог возможен.
РПЦ успешно развивает богословский (sic!) православно-шиитский диалог по линии Москва — Тегеран. Что здесь может быть общего в богословии или религиозной практике? Не так много. Когда я читаю документы по этому диалогу, то вижу, что речь всегда идет об осуждении западных ценностей и о защите традиционных ценностей, какими бы они ни были. Конечно, в России и в Иране эти ценности очень разные, но общий вывод всегда однозначный: мы против Запада — это всегда декларация совместной борьбы против.
Мы наблюдаем повсеместную консолидацию крайне консервативных религиозных и секулярных сил. Недаром в кругах РПЦ вводится понятие «экуменизм 2.0». Здесь уместно сослаться на давно опубликованную ББИ «Декларацию ревнителей великой Схизмы им. Кардинала Гумберта и Патриарха Михаила Керуллария» 3, основным мотивом которой является лозунг «Антиэкуменисты всех традиций, объединяйтесь, только вместе мы сможем преодолеть экуменическую заразу!». Тогда это казалось смешным, сегодня оказалось пророческим.
Что делать? Задача сложная и для либералов, и для православных. В обоих случаях мы обычно говорим об активном меньшинстве. Либеральный лагерь более активен и более образован, чем религиозный. Надо помнить, что Россия в целом секулярная страна. Если мы говорим о практикующих верующих, то в России их всего несколько процентов населения. Поэтому речь идет прежде всего об идеологических конструктах. Не стоит при этом думать, что либеральный и религиозный лагери не пересекаются.
В качестве примера приведу США. Один из крупнейших исследователей современной истории католической церкви, Массимо Фaджиоли, показывает, что размежевание между либеральным и консервативным лагерями проходит не по линии светского общества и католического сообщества в США. Размежевание, в том числе политическое и культурное, по отношению к либеральным ценностям проходит и внутри католической церкви, и внутри общества в целом. Другими словами, светское и религиозное представлено в каждом из лагерей. В России это менее заметно, но процессы происходят те же. Вполне может быть, что у либералов получится сыграть на этом.
Предыдущие выступающие много говорили про диалог. Алексей Бодров считает себя в этом смысле пессимистом, по крайней мере в российском контексте. Да, необходимо развивать площадки для диалога — это могут быть конференции, круглые столы, книги, активное неформальное общение, все это конечно работает, но других конструктивных предложений у него пока нет.
Действующий пастор немецкой евангелической общины Эммаус при посольстве Германии в Москве
Ее детство прошло в Германской Демократической Республике, где церковь в целом рассматривалась как что-то отсталое, неразумное и т.д. Но в Евангелическо-Лютеранской церкви в ГДР собралась группа людей, вера которых строилась на иных основаниях, чем у большей части общества. Церковь выступала за свободу мнений, за свободу выборов, за права человека и гражданина, за свободу передвижения. В нашей дискуссии прозвучали слова о том, что трудно быть верующим и демократом одновременно. В условиях ГДР это было не так уж и трудно, потому что внешние условия, конечно, были сложные, но многие люди действительно были верующими демократами.
Отношения между церковью и государством строились в ГДР на глубоком антагонизме, их совместная работа во благо общества не приветствовалась и была практически невозможна. Но впоследствии объединение Германии произошло при активном участии Евангелическо-Лютеранской церкви.
Здесь уже говорилось о том, что церковь призвана быть инструментом диалога, именно так и случилось в объединяющейся Германии ― церковь оказалась единственным институтом в немецком обществе, который пользовался доверием, мог выстроить диалог и продвигать его. Представители церкви в ГДР активно участвовали в строительстве нового демократического общества и искренне желали выстроить нечто новое. При этом многие представители церкви и не стремились к быстрому объединению страны. Они хотели сперва провести реформы в ГДР и в церкви, но общие тенденции были другими, довольно быстро произошло объединение двух германских государств, как и объединение евангелическо-лютеранских церквей Западной и Восточной Германии.
Алене Хоффманн было 19 лет, когда произошло объединение Германии. Для нее стало новым, потрясающим опытом ― жить демократическим христианином в демократическом государстве. Как-то вдруг оказалось, что большинство немцев принадлежит к той или иной конфессии, как правило к двум большим церквям: католической и протестантской.
Многие представители Евангелическо-Лютеранской церкви опасались излишней близости между церковью и государством. Были определенные опасения и Алены, когда она изучала теологию в университете; в частности, когда в государственных школах началось преподавание Закона Божьего, причем в зависимости от конфессии. Были опасения, что это станет своего рода возвращением к ГДР, что возникнет принуждение, на этот раз к изучению религии. Конечно, родители вправе принимать решение, что будут изучать их дети, Закон Божий или светскую этику, и тем не менее такие опасения были.
Возникали и активно обсуждались вопросы, связанные с деятельностью военных капелланов. Для многих христиан было совершенно неприемлемо, что церковь взаимодействует с немецкой армией и с НАТО. «Перекуем мечи на орала!» ― таков был их девиз. Тогда многие христиане отказывались от службы в армии с оружием в руках. Связь церкви с армией воспринималась как поддержка церковью войны.
Следующий острый вопрос ― церковный налог. Он собирается финансовым ведомством ФРГ, которое получает 2–4% от этих налоговых поступлений. Это также выглядит как слишком тесная связь между церковью и государством. Однако со временем критические голоса от восточногерманской церкви становились тише. Надо сказать, что и ситуация развивалась в положительном ключе, то есть не так, как многие ожидали. В Конституции ФРГ говорится, что государственной церкви не существует, но так ли это на самом деле? Да, церкви и религиозные общины отделены в Германии от государства, но при этом они имеют определенные взаимоотношения, которые порой подвергаются критике. Эти взаимоотношения урегулированы как Основным Законом, так и отдельными договоренностями. Если раньше Алена Хоффманн была среди тех, кто требовал четкого разделения церкви и государства, то сейчас она с такими требованиями не выступает, потому что преимущества сотрудничества государства и церкви очевидны. Ведь целевая группа для обеих институций ― одно и то же общество, одни и те же люди.
Сосуществование в рамках демократического государства требует сотрудничества. Нужно ли церкви уходить в какую-то свою изолированную нишу? Вряд ли, ведь будет противоречить принципу религии.
Религия, конечно, свободный выбор каждого, но это не частное дело. Религия ― важная часть общества, часть государства. Это, помимо всего прочего, и определенное представление о жизни общества. Таким образом, религия носит общественный характер. И государство и церковь работают с одним и тем же человеком и обществом. И они хотят, чтобы их сосуществование было организовано наилучшим образом. Как и другие общественные институты, религиозные сообщества стараются внести свой вклад в общественное благо. И государство это поддерживает.
В Германии действует принцип субсидиарности. Это значит, что государство прямо осуществляет деятельность в социальной и культурной сфере только в том случае, если нет других организаций или сообществ, которые готовы взять эту деятельность на себя. Таким образом, многообразие социальной деятельности церкви поддерживается государством, используются ее компетенции. Многообразие здесь противопоставляется уравниванию. Таким образом, церковь вносит свой вклад в развитие открытого общества в Германии.
Представляется, что государству нужны церкви, потому что они наводят мосты между людьми. Люди могут работать в проектах, инициированных церковью, на общественных началах, это может даже стать их основной деятельностью. Когда в 2015 году в Германию хлынул поток беженцев, многие христиане были готовы предоставлять им жилье, давать уроки немецкого языка, всячески помогать.
И последний тезис. Говоря о сотрудничестве государства и церкви, всегда стоит помнить, что они в обществе все-таки противопоставлены друг другу. Церковь воспринимается как совесть государства. Церковь в Германии вмешивается и в повседневную политическую жизнь, и в правовую систему, но только когда нашим базовым христианским ценностям и принципам угрожает опасность. В таких случаях звучат голоса и католической и евангелической церквей: пишутся меморандумы, делаются заявления по вопросам социальной справедливости и социальной политики.
Со своей стороны, и у государства есть право удостовериться, что сотрудники церкви и церковные структуры соответствуют государственным законам и действуют согласно им. И наконец, демократическое государство нейтрально по отношению к религии, но отнюдь не нейтрально по отношению к ценностям. Оно естественным образом допускает существование различных мнений, и это касается не только двух больших церквей. Государству важно узнать, что думает общество по поводу тех или иных спорных вопросов, до того, как будут приняты окончательные решения. Поэтому представители евангелической и католической церквей, а также других общественных институтов работают в этических советах, в наблюдательных советах теле- и радиокомпаний, их приглашают на заседания комитетов Бундестага, чтобы они смогли там высказать свое мнение.
Абсолютно правильно и важно, чтобы государство призывало разные общественные силы работать в форме социальных проектов на общее благо. Также важно и правильно, чтобы церковь по собственной инициативе высказывала свою позицию по различным вопросам: в отношении максимизации прибыли, экономического роста и др. Церковь призвана продвигать такие ценности, как любовь к ближнему, поддержка слабых или тех, кто не может позаботиться о себе сам, поддерживать ценность жизни. В Германии это удается неплохо, и церковь здесь вносит свой важный вклад в гуманизацию общества.
Руководитель бюро Фонда Фридриха Науманна в России (в 2012-2020 годах)
Он обучался политическим наукам, философии и экономике в Мюнхене и получил ученую степень магистра в области политической стратегии и коммуникации в Кентском Университете. Также был советником либерального депутата Европарламента.
В Тюбингене реализуется замечательный проект Эйнриха Кюнга ― Институт мировой этики. В его основе лежит важная идея — не смешивать этические системы разных религий, но искать и понимать, что их объединяет. Конфликт с новыми беженцами, у которых часто есть своя религия, говорит о парадоксе интеграции: не случайно, что первое поколение беженцев менее религиозно, чем последующие. Мы видим это в жизни. Типичный пример в Германии: если уборщица носит хиджаб, об этом никто не говорит.
Сорок лет никто об этом не говорил, если это были уборщицы! Но вот когда учительница надевает хиджаб — хорошая, интегрированная, второе-третье поколение, с турецкими корнями, — тогда эти религиозные вопросы становятся политическими и возникают конфликты. В обществе постоянно происходят изменения. Такие конфликты помогают лучше изучить ситуацию и продолжить диалог.
Мы ожидаем от религиозных общин прежде всего формулирования общих принципов, которые можно применить на благо общества и государства. Церковь остается важным институтом гражданского общества, но при этом сама она не должна быть государственной. Такие институты призваны, с одной стороны, контролировать государственную власть, а с другой — объяснять свои взгляды и подходы, придавая тем самым импульс дальнейшему развитию в социальной и политической сфере.
Сергей Чапнин коснулся проблемы взаимопонимания РПЦ и гражданского общества. Он отметил, что внешне ситуация в России похожа на немецкую. Патриарх Кирилл также выступает с общественно значимыми инициативами, о них активно говорят государственные СМИ. Однако по существу эта ситуация диаметрально противоположна немецкой. В тот момент, когда церковь решила поддержать имперский курс Кремля, она оказалась на развилке: быть с государством или быть с гражданским обществом. К сожалению, в российских реалиях это именно такой выбор ― «или/или». Если ты с государством, то, по сути дела, против гражданского общества, а если ты с гражданским обществом, то против государства. Выбор церкви был описан выше, и в этом смысле вся дальнейшая история — это история не просто отсутствия содержательного диалога церкви и гражданского общества, но история разочарований и несбывшихся надежд. Церковь вышла из общественного пространства как самостоятельный субъект, способный публично давать нравственную оценку происходящему в государстве и обществе. Церковь от этой роли сознательно отказалась, что стало для нее одной из главных проблем.
Константин Эггерт, отметил, что в РПЦ произошла подмена понятий: единство и соборность, которые предполагают сообщество верующих и иерархии, подменены авторитарным единством в том же смысле, в каком партия «Единая Россия» является единой. Все маршируют под определенную мелодию с определенным оркестром и скандируют определенные свыше лозунги. Ожидать, что появятся церковные диссиденты из числа епископов, невозможно, система ставит в епископат только тех, в чьей лояльности не сомневается. На самом деле это очень плохо, потому что будущий политический кризис в России приведет в том числе и к глубокому кризису системы церковного управления. Тогда возникнет хаос и борьба за близость к новой власти.
Тогда придется заново объяснять, что церковь ― это сообщество верующих, а не административно-бюрократическая структура, которая всем рулит. Теоретически управление православной церковью более демократично, чем католической, в ней патриарх является первым по чести епископом, который не обладает исключительными правами и исключительным авторитетом, как папа римский. Но это полностью забыто. Демократия изгнана и из церковной жизни тоже.
Елена Степанова подчеркнула, что одна из главных задач либерализма ― поддерживать многообразие, а не запрещать. Россия ― сложная страна со сложной историей, и чем большее разнообразие мы допускаем, тем лучше и религиозные организации, и общество в целом выполняют свою миссию.
Говоря о противоречии между верой и религией, следует скорректировать формулировку: надо говорить о более общем противоречии между институтом и человеком. Это не одно и то же, потому что религия может быть разной. Айвен Стренский отвечает на вопрос «Что такое религия?» просто: «Религия — это то, что мы хотим считать таковой». Никакого общего, окончательного определения религии нет и быть не может. Однако противоречие между человеком и институтом церкви совершенно очевидно. Об этом уже говорил Константин Эггерт. РПЦ как институт в своем нынешнем виде совершенно архаична, и у нее в этой связи накапливаются серьезные проблемы, но эти проблемы совпадают с проблемами государства. Алена Хоффманн говорила о том, что церковь помогает государству понять, что в нем творится. Однако беда нашего государства в том, что оно не хочет знать, что в нем творится. Оно о чем-то, возможно, и догадывается, но не хочет спрашивать об этом напрямую.
Миссия либерализма, среди прочего, заключается в том, чтобы попытаться понять, что же происходит на самом деле, а не в теоретических построениях, политических или религиозных.
Наконец, стоит напомнить о следующем: американский богослов Райнхолд Нибур предупреждал, что нельзя воспринимать церковь исключительно как элемент гражданского общества, потому что всегда должно оставаться то, что является тайной и мистикой церкви в широком смысле слова — не православной, а какой угодно. Нельзя отождествлять христианство с социальной миссией.
Отвечая на вопрос, дает ли с точки зрения развития гражданской свободы и гражданского общества российский ислам какую-то надежду или он такой же проблемный, как РПЦ, Алексей Малашенко подчеркнул, что, во-первых, ислам в России очень разный. Во-вторых, в глубине традиции ислам ― религия протеста. Это важно. И, наконец, в-третьих, российский ислам испытывает серьезное влияние извне, но не со стороны, как у нас принято говорить, ваххабитов, террористов и исламистов. Понимание того, что мусульмане России ― часть мировой исламской уммы, постепенно меняет сознание в Казани, в Грозном и в Махачкале. Этот процесс далеко еще не завершен. Раньше все принадлежали к советскому народу, СССР был великой державой и этим гордились. А сейчас чем гордиться? Сопричастность чему-то великому все больше и больше отождествляется с исламом, ведь ислам — это что-то мощное и грозное. А Россия теперь лишь одиннадцатое место в мировой экономике. Это все прекрасно понимают, но при этом верхушка исламского духовенства, все религиозные институты полностью лояльны власти, хотя, конечно, есть и исламское диссидентство.
В случае острого политического кризиса про РПЦ забудут сходу, она будет не нужна, так как не сможет ни сорганизоваться, ни выступить самостоятельно в политическом хаосе. А вот с исламом могут произойти очень интересные вещи, потому что исламская оппозиция (как угодно ее можно называть: исламисты, ваххабиты, салафиты, нативисты) будет сорганизовываться, и прежде всего на этнорегиональном уровне. Я не верю, что появится «исламская Россия», но исламская оппозиция определенно будет серьезным политическим фактором.
Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен дополнительно отметил, что либеральная традиция вовсе не игнорирует мораль и моральные нормы, наоборот, опирается на них, и привел в пример Фридриха Науманна, именем которого назван фонд, — он был не только политиком, но и пастором.
Подводя общий итог дискуссии, Владимир Рыжков отметил широкий круг затронутых вопросов и особо подчеркнул, что необходимо больше внимания уделять праву, как универсальному регулятору общественных отношений. Право, не нагруженное идеологическими и моральными смыслами, может быть положено в основу либерального порядка, что откроет в том числе и новые возможности для диалога, о необходимости которого говорили все участники дискуссии.
и следите за обновлениями!
Председатель Общероссийского общественного движения «Выбор России», политик, член Координационного совета Экспертной группы «Европейский диалог»
Только последовательная либеральная политика в состоянии обеспечить прочный мир между людьми и народами, на основе всестороннего сотрудничества. «Конечным идеалом либерализма является полное сотрудничество всего человечества, протекающее мирно и без трений». «Либерализм есть гуманизм, а либерал ― космополит, гражданин мира». Международные отношения должны отвергнуть национализм, протекционизм и автаркию и обеспечить «гармонию интересов всех наций».
Политические, гражданские, экономические свободы должны быть надежно защищены как на национальном, так и на международном уровне. Поэтому Мизес выступает за создание мирового правительства, способного защитить свободы в мировом масштабе.
Международное право должно иметь верховенство над национальным. Лига наций времен написания книги была устроена на иных принципах и не смогла, как хорошо известно, защитить ни свободы, ни мира. После Второй мировой войны ООН также не стала наднациональной инстанцией, способной обеспечить повсеместное торжество права и свободы, мирное сотрудничество народов и государств. Для утверждения мирного сотрудничества в духе свободы Мизес полагает необходимым распространение во всем мире либерального умонастроения: «Либеральное решение должно пропитать все нации, либеральные принципы должны проникнуть во все политические институты, если мы хотим создать необходимые предпосылки для мира и устранить причины войны». Причина войн и конфликтов, в том числе мировых, коренится прежде всего в отказе в отказе от либеральных идей и принципов.
Таким образом, либерализм в основе своей ― идеология прочного мира, человеческой свободы и широкого сотрудничества людей и народов. Любой отход от принципов либерализма (национализм, протекционизм, милитаризм, шовинизм, изоляционизм, этатизм, империализм и проч.) влечет за собой нарушения прав людей, конфликты, лишения и войны. Для достижения мира и сотрудничества между людьми и народами необходимо создать систему полномочного международного, наднационального регулирования (мировое правительство). Нужны всемирные эффективные политические структуры. Государственные интересы и границы имеют в сравнении с этими глобальными задачами второстепенное и случайное значение. Если человечество желает жить в мире и согласии, оно должно прочно усвоить либеральное мировоззрение ― единственную действенную гарантию мира во всем мире. Такова в основных чертах внешнеполитическая либеральная программа Мизеса. Несложно заметить, что она очень далека от реализации и через 90 лет после выхода в свет его знаменитой книги.
Итак, в самом общем виде либеральные принципы международных отношений ― это принципы и отношения, которые в первую очередь защищают свободу в международной политике, права и свободы человека, мирное сотрудничество, а также экономическую свободу ― свободу торговли, инвестиций, капиталов, услуг и перемещения людей. Соответственно, если международная политика и институты способствуют такой всесторонней свободе и всестороннему сотрудничеству, они являются либеральными, если же политика вводит барьеры, запреты и ограничения, как, например, Дональд Трамп с его протекционизмом, то такая политика не является либеральной и ведет к конфликтам и нарушению прав. Если международная среда защищает права человека, она либеральная, если нарушает, то нелиберальная.
Если посмотреть на современное международное право, на такие его основополагающие документы, как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, на такие организации, как Совет Европы и ЕСПЧ, ОБСЕ (здесь мы сразу вспоминаем так называемую третью корзину Заключительного Хельсинкского акта, в которой провозглашались политические свободы и права человека); если вспомнить парижскую Хартию для новой Европы ОБСЕ 1990 года, в которой обещалось, что во всей Европе будут защищаться свобода, демократия и права человека, мир, согласие и сотрудничество; если учесть, что в основе Европейского союза лежат классические либеральные требования соблюдения прав человека, демократии, свободы, как и то, что в экономическом смысле ЕС и его единый внутренний рынок защищает свободу передвижения лиц, капиталов, услуг и товаров, ― то все это либеральные структуры и обязательства.
Все основные международные организации и все международное право в целом утверждают и защищают либеральные принципы международных отношений вполне в духе идей Мизеса. И даже ВТО, которая сейчас находится в определенном кризисе, создавалась как структура, которая должна была способствовать либерализации международной торговли.
К сожалению, все эти важные структуры и документы в наши дни подвергаются серьезным атакам с самых разных сторон, либеральные декларации и конвенции охотно принимаются государствами, но потом не выполняются ими. Многие государства, которые ратифицировали многочисленные декларации о правах и свободах, их по факту игнорируют и нарушают. При этом не существует никаких действенных механизмов принуждения и контроля. Даже в старых демократиях, как мы видим, усиливаются протекционизм, национализм, популизм и все чаще нарушаются права человека. В Европейском союзе, оплоте права и свободы, появились страны, где массово нарушаются права и свободы граждан, ― такие, как Венгрия и Польша.
Если после 1989 года в мире в целом доминировала тенденция к разоружению и контролю над вооружениями, то теперь наметился опасный разворот к новой гонке вооружений, к разрушению режимов контроля над вооружениями, что также подрывает либеральный порядок, целью которого являются, повторим, мир и сотрудничество. Признанные лидеры либерального миропорядка — ЕС и США — испытывают внутренний кризис, даже в них либеральные ценности подвергаются серьезному испытанию.
В ситуации опасной эрозии либеральных основ международного порядка горячо обсуждаются важные для либералов теоретические и практические вопросы. Каким должен быть ответ либералов ― интеллектуалов, политиков, структур гражданского общества на новые вызовы? Какие дополнительные инициативы, документы и структуры могут предложить либералы в защиту либеральных принципов международных отношений? Возможно ли обосновать либеральную внешнюю политику для России или же для нее по каким-то причинам предопределена нелиберальная политика, как внутренняя, так и внешняя? Как реформировать и укрепить на либеральной основе международные правовые порядки и структуры? Как укрепить на либеральной основе глобальный флагман свободы ― Европейский союз?
Руководитель бюро Фонда Фридриха Науманна в России (в 2012-2020 годах)
Он обучался политическим наукам, философии и экономике в Мюнхене и получил ученую степень магистра в области политической стратегии и коммуникации в Кентском Университете. Также был советником либерального депутата Европарламента.
Если взять левые движения и правых противников либерализма, то для них речь идет в первую очередь не о свободе и достоинстве личности, а о приоритете коллектива и государства. Социалисты видят в общественных отношениях прежде всего социальную борьбу. Что касается правых ― для них важно соперничество народов и культур. Левые хотели бы воспитывать людей в духе социалистических утопий, а правые стремятся к тому, чтобы люди не выпадали из кажущейся безопасности старого порядка, под контролем сильного государства.
Либералы же стремятся установить такой социальный порядок, который гарантировал бы защиту свободы каждого отдельного человека. Если переносить этот общий принцип на систему международных отношений, то либеральные подходы в данном случае состоят в том, чтобы всегда с определенным сомнением относиться к государству как важнейшему актору международных отношений, потому что государство ― это всегда лишь некий конгломерат индивидуумов.
Либералы очень подозрительно относятся к мысли о том, что государство является самодостаточным и важным самим по себе организмом. Кроме того, либералы верят в необходимость сильных правовых структур, которые, с одной стороны, защищают индивидуума ― человека, а с другой — должны обеспечить в качестве предпосылки свободы, чтобы разного рода политические институции заботились о человеке, не посягая на его свободу. Все документы, которые мы обычно перечисляем: Устав Организации Объединенных Наций, Хельсинкский Заключительный акт и т.д., как и Договор о ракетах среднего и меньшего радиуса действия (РСМД), ― это отдельные элементы такого порядка.
Речь идет об ответственности и необходимости брать на себя соответствующую защиту прав и свобод (responsibility to protect) в международных отношениях. При этом не следует вмешиваться во внутренние дела других государств. Это тоже часть либерального понимания международных отношений. Наш фундаментальный подход заключается в том, что прежде всего в центр внимания как национальных, так и международных отношений следует ставить права и интересы индивидуума.
Авторитарные государства, вне зависимости от того, левого они направления или правого, как правило, имеют проблемы в понимании права на свободу, прав человека. Если взять современных националистов и популистов, то все они пытаются каким-то образом нанести удар по правам человека. Открытые противники либерального порядка в международных отношениях, будь то президент США Дональд Трамп или другие, должны получить в ответ на свои действия соответствующие санкции ― чтобы международная интеграция служила на пользу только тем, кто строго выполняет общепризнанные правила.
Соединенные Штаты Америки, Россия, Китай и Европейский союз должны быть побуждаемы либералами к новым переговорам на этот счет, необходимо последовательно защищать идеи либерализма, чтобы либеральный порядок стал для людей привычным и легитимным. Именно такой порядок должен доминировать в XXI веке, имея в виду, что либерализм ― это свобода каждого индивидуума и одновременно правопорядок свободы.
Член СвДП, в прошлом сотрудник ОБСЕ
Как определить либеральный элемент в международных отношениях? Представляется, что можно выделить три основные опоры, или базовые концепции: порядок, правила и честную конкуренцию. В их основе теоретические модели ордолиберализма и правовой безопасности, разработанные в свое время Ф. Хайеком, В. Ойкеном и другими либералами. Эти опоры и концепции либерализма взаимно определяют друг друга, поддерживают друг друга, и именно они ставятся сегодня под вопрос, находятся в опасности.
Следует вернуться к наследию Ганса-Дитриха Геншера касательно важности идеи порядка в международной системе и международных отношениях. Следует определить и утвердить либеральную модель такого порядка, противопоставив ее международной анархии. Для либералов особенно важно не классическое равновесие сил по Киссинджеру, а ориентация на ценности и многосторонние структуры. Нужно, чтобы все государства нашли свое место в этом порядке, чтобы все они были в нем заинтересованы, будь то на основании равновесия сил, или в силу прагматического подхода, или на базе ценностей. Важно, чтобы сложился либеральный межгосударственный общественный договор. В теории Руссо индивидуумы в рамках общественного договора отдают часть своего суверенитета государству. Точно таким же образом нужно постараться создать международный миропорядок, в котором часть суверенитета государств передается на международный уровень в рамках идеи мира, сотрудничества, безопасности и свободы.
Второй столп ― правила, а правила означают в первую очередь право. Правовая безопасность, по Ф. Хайеку, чрезвычайно важна и на уровне государств, и на международном уровне. Либеральный международный порядок должен основываться на правилах и правовых нормах прежде всего для того, чтобы все стороны воспринимали его как устойчивый и предсказуемый. И вот такой порядок в международных отношениях все чаще ставится под вопрос. Это касается политики безопасности, договора об РСМД, торговых отношений, ВТО и международных правил торговли, оспаривания решений Европейского суда по правам человека. Все чаще берет верх старый национальный эгоизм.
Наконец третий элемент ― конкуренция. Честная конкуренция между акторами международных отношений. Для либералов важна именно честная, справедливая конкуренция. Это базовый элемент рыночной экономики, такая конкуренция должна основываться на правилах и определенных принципах, должны быть запрещены монополии, картели и прочие проявления нечестной конкуренции. Точно так же и в международных отношениях национальные государства конкурируют между собой, что вполне нормально и даже хорошо, но их конкуренция должна осуществляться в рамках честных и справедливых правил.
Рассмотрим далее вопрос о роли индивидуума в международных отношениях. Либералы защищают индивидуума от вмешательства и произвола государства, но должны учитывать при этом, что государство по-прежнему выполняет важную функцию защиты прав и регулирования. Пока ничего вместо государства в этой области не возникло, замены ему нет (ни мирового правительства Мизеса, ни схожего объединения государств). Альтернативы национальному государству по-прежнему не существует, но при этом индивидуум должен играть все большую роль, а государство должно окончательно утратить свою трансцендентную (сакральную) функцию. При этом оно не может сложить с себя обязательств касательно войны, мира и защиты населения. Более того ― многочисленные конфликты, войны и нарушения прав человека зачастую возникают потому, что государства слишком слабы, а не слишком сильны. Мы должны обязательно это учитывать.
Теперь о роли и месте в либеральном порядке такой организации, как ОБСЕ. Представляется, что в Европе сложилось ядро либерального международного миропорядка, притом сложилось именно на основе ОБСЕ. Ведь ОБСЕ — это организация, которая основывается на тех же принципах, что и Хельсинкский Заключительный акт 1975 года, и при этом географически охватывает важнейшие государства, которые несут ответственность за судьбу Европы, важны для судьбы Европы. Наконец, ОБСЕ понимает безопасность так, как это близко либералам. Речь идет не только о военной безопасности, но и о правах человека, об экономических и экологических аспектах. Такая комплексная дефиниция безопасности очень важна для того, чтобы продвигаться в нашей дискуссии и решать актуальные проблемы.
Поэтому путь к решению многих международных и внутренних проблем, в том числе для Европы, состоит в укреплении ОБСЕ. Ведь речь идет не просто о разовом договоре или заключительном политико-правовом акте, а о комплексном процессе, который находится в постоянном развитии и учитывает при этом интересы самых разных международных акторов (государственных и негосударственных).
Старший научный сотрудник Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, менеджер по аналитической работе РСМД
Все это стало возможным на фоне глубокого и тяжелого потрясения, которым стали две мировые войны. Именно под впечатлением от трагедии двух войн были созданы новые международные нормы и институты. Протагонистами данного порядка были прежде всего, как это сегодня модно говорить, страны «коллективного Запада».
Когда мы дебатируем о кризисе международного либерального порядка, либералам следует себе задать один из фундаментальных вопросов: кто же в сегодняшних условиях может быть протагонистом либерального порядка, его сохранения, поддержания и развития?
Ключевая тенденция наших дней заключается в том, что ряд государств и народов требует возвращения суверенитета обратно с наднационального на национальный уровень. Кто здесь основные игроки и каковы их аргументы? Если мы в этом разберемся, то, возможно, поймем, кто может быть протагонистом либерального порядка в нынешних кризисных условиях.
Большая группа развивающихся стран заявляет, что сложившиеся наднациональные институты (экономические, политические и проч.) делают их еще беднее. По их мнению, за время существования послевоенного порядка богатые богатели, бедные беднели, многосторонние институты давали странам Запада возможность менять режимы в слабых государствах, осуществлять вооруженные вторжения и т.п. Таким образом, у развивающегося мира накопилась масса претензий к существующим многосторонним институтам, поэтому среди его представителей активных протагонистов либерального порядка в том виде, в каком он существовал до сегодняшнего дня, мы вряд ли найдем.
Что касается так называемых великих держав или держав, которые претендуют на то, чтобы быть великими, и в их числе, конечно, Россия и Китай, то их аргумент состоит в том, что сложившийся либеральный миропорядок не такой уж на самом деле либеральный. Западный мир позволяет себе практически все, а суверенитет и национальные интересы других держав зачастую оказываются ущемленными, особенно если они противоречат интересам развитых государств. Таким образом, критике подвергается не столько сама система международного права и институтов, сколько практика правоприменения, наличие в мире системы двойных стандартов, когда на бумаге все выглядит чисто и благородно, а на практике выходит совсем иначе.
В самом западном мире также наблюдается негативная динамика, выраженная ростом популизма, суверенизма, национализма, протекционизма и проч. Началось это в тех странах, которые либо не смогли получить достаточно выгод от глобализации, не смогли встроиться в глобальные производственные цепочки и вследствие этого чувствуют себя неконкурентоспособными на мировой арене, либо почувствовали, что их национальные интересы ущемляются международным правом, что их потенциальные возможности на самом деле гораздо больше, чем то, что им позволяет делать международное право.
В основе их протеста лежит прежде всего общественное недовольство. Недовольство значительной части среднего класса, который ощущает себя неконкурентоспособным на мировом уровне. Это относится к государствам Восточной Европы, которые при встраивании в Европейский союз потеряли довольно много собственной рабочей силы и рабочих мест, но также и к очень развитым государствам ЕС, например к Италии, которая экономически находится в уязвимом положении. Эти же государства ощущают наибольший ущерб от миграции — свобода передвижения людей и капитала, с их точки зрения, дала им гораздо меньше, чем они ожидали.
В силу этих обстоятельств нынешний ЕС вряд ли сможет взять на себя роль лидера защиты и развития либерального международного порядка. Прежде всего потому, что в самом Союзе нет политического единства, нет консолидации по этому поводу. Недавний экономический прогноз Европейской комиссии оказался гораздо более негативным, чем все предыдущие, в том числе в отношении самых развитых экономик ЕС, включая Германию и Францию. Это означает, что ресурсы даже экономических гигантов ЕС в ближайшем будущем будут направлены в основном на решение собственных экономических и социальных проблем и задач. Вряд ли они будут в состоянии поддержать либеральный глобальный проект, который был бы конкурентоспособен по сравнению с суверенизмом и нацинализмом, набирающими обороты.
Кроме того, в условиях торговой войны США с Китаем и санкционной политики ЕС в отношении России Европейский союз не предлагает пока нового видения будущего. Даже локомотивы евроинтеграции в лице Франции и Германии не в состоянии выдвинуть новые жизнеспособные инициативы, сформулировать обновленную европейскую идею. Важно, чтобы ЕС не отнесся терпимо к политике США, которая исходит из существования одного-единственного экономического и политического суверена, готового применять меры экономического и политического давления против любых непокорных стран и объединений. Признание со стороны ЕС подобного грубого доминирования США было бы неправильным и опасным для всех шагом, поэтому перед Европейским союзом стоит непростая задача — выработать альтернативу политике диктата со стороны США.
Что касается России, то у нее также нет пока четкой стратегии и ясного понимания того, на какой стороне она находится в борьбе между национальным суверенитетом и международным правом. С одной стороны, Россия постоянно апеллирует к международному праву, с другой — энергично отстаивает национальный суверенитет и реализацию собственных национальных интересов. Российское руководство хорошо понимает, что экономические позиции страны в настоящий момент очень слабы, поэтому единственный инструмент, который у нее остается, ― апелляция к международному праву с тем, чтобы этот порядок окончательно не был разрушен, и разрушен не в пользу России.
Исходя из всего этого, единственный аргумент, который мог бы стать надежной опорой защитников либерального мирового порядка, сводится к тому, что с разрушением основ и заделов, которые были созданы после 1945 года, в первую очередь всего комплекса международного права и многосторонних институтов, мир перейдет к праву сильного ― сильного во всех отношениях, в военном и экономическом прежде всего, а если так, то ни у Европейского союза в его разобщенном состоянии, ни у России не будет никаких шансов занять достойное место в новом мировом порядке.
Они будут обречены на диктат извне, что уже показала история с «Русалом», которая завершилась тем, что крупная российская компания фактически попала под внешнее управление, несмотря на свою российскую юрисдикцию. Поэтому Россия и ЕС, безусловно, заинтересованы в сохранении международного права и сложившихся многосторонних порядков, иначе участь наша будет незавидной. В этой связи Россия заинтересована в формировании своего позитивного имиджа за рубежом, что требует переформатирования российской внешней политики в более либеральном ключе.
Существующие международные институты, при всех своих недостатках, являются примером действенного международного порядка. Ничего лучшего не существует. Международные институты ― гарантия свободы каждого, того, что она не будет ущемлена за счет свободы другого. В этом заключается самая суть либерализма. И поэтому выбор в пользу либерального мирового порядка возможен только при понимании масштаба ущерба, который будет нанесен в случае, если та или иная норма, тот или иной институт перестанут существовать. Многие политики расшатывают существующие механизмы от незнания, от непонимания того, что, если мы их лишимся, ситуация окажется гораздо хуже нынешней. Наша задача ― показывать возможные альтернативы и сценарии, разъяснять цену и последствия принимаемых решений.
Заведующий отделом разоружения и урегулирования конфликтов ИМЭМО РАН, профессор МГИМО
Идея либерализма в основе своей ― идея политической свободы, основанная на концепции естественных прав человека. Экономический либерализм вторичен по отношению к принципу политической свободы и естественных прав и даже может вступать с ним в противоречие. Еще сложнее перенести принципы либерализма в область международных отношений, прежде всего отношений между государствами. К ВТО идеи либерализма как таковые также отношения не имеют по той причине, что ВТО не утверждает принципы свободной торговли, а определяет самые разные ее условия, среди которых широко практикуется и протекционизм. У истоков ВТО были длинные переговоры между Великобританией и США, в ходе которых Великобритания всячески отстаивала свою стерлинговую зону, свой совершенно нелиберальный подход к экономике, а США заставляли ее ломать эту политику, продвигая свободную торговлю. Не существует детерминированной трансляции коренной идеи либерализма о свободе на сферы экономики и международных отношений.
Ключевыми и основополагающими для размышлений о либеральном миропорядке являются идеи Иммануила Канта в трактате «О вечном мире», а также блестящая книга Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории». Также полезна для понимания либерального миропорядка концепция Карла Дойча о «гуманистическом сообществе безопасности». Идеи Фукуямы и Дойча при этом очень близки между собой.
Либеральный миропорядок, по Фукуяме, заключается в победе либерализма, понимаемого как всеобщее равное признание прав и свобод всех граждан внутри государств, как постепенная победа либерализма во внутригосударственном строе во все большем количестве стран. В 1989 году последняя тоталитарная идеология (коммунизм) уступила место либеральной идеологии, либерализм начинает распространяться по всему миру, идет процесс внутренней трансформации стран на основе либеральных принципов, на базе уважения прав, свободы, верховенства закона. Но у Фукуямы нет никакого окончательного «конца истории», потому что либеральный миропорядок — это принципиально новый тип отношений, возникающий между либеральными государствами, государствами либеральной демократии. Они не воюют друг с другом, все спорные вопросы, все конфликты интересов разрешают на основе многосторонних или двусторонних механизмов, на основе права, не пытаясь это право согнуть в чью-либо корыстную сторону. Таким образом, по Фукуяме, либеральный миропорядок ограничен государствами, которые являются либеральными демократиями. Нелиберальные, авторитарные государства, соответственно, не являются частью либерального международного порядка.
Карл Дойч искал ответ на вопрос, можно ли найти в мире примеры, когда война между государствами стала бы совершенно немыслимой, когда они избавились бы от дилеммы безопасности в отношениях друг с другом, когда независимо от соотношения сил не видели бы необходимости усиливать общую границу, укреплять оборону и проч. Если такие примеры в мире есть, то можно попытаться выделить и сопоставить структурные причины и условия прочного мира, которые совпадают во всех таких случаях, и на этой основе предложить объяснение, в каких случаях возможно возникновение международного сообщества безопасности ― то есть группы государств, которые не воюют друг с другом.
Дойч нашел такие примеры. Его первая книга вышла в 1957 году, когда не было еще Европейского союза. Главным положительным примером для Дойча стали канадско-американские отношения после всех постколониальных войн. В свете теории Дойча не существует никакого конфликта между суверенитетом и чем-то еще, потому что наднационализм (наднациональные институты) здесь вовсе необязателен, как и необязательно, что это уникальный случай в истории. Международное сообщество безопасности может существовать и при полном соблюдении суверенитета государств, при строгом его уважении, не требуя создания наднациональных структур, но требуя при этом огромной, плотной сети коммуникаций, институтов взаимодействия, которые позволяют сотрудничать и мирно разрешать все вопросы.
Карл Дойч пытался понять НАТО как сообщество безопасности, что у него не получилось, поскольку было много сомнений, прежде всего в силу того, что никто не мог исключить, особенно в 1957 году, войну между Турцией и Грецией. В силу этого НАТО не подпадало под определение сообщества безопасности.
Сегодня мы вполне можем относить к успешному сообществу безопасности Европейский союз, одна из главных задач создания которого заключалась в том, чтобы сделать более немыслимой войну между Францией и Германией. Что и было успешно достигнуто. В это же сообщество безопасности входит Швейцария, не член ЕС. Она совершенно не боится абсолютного военного превосходства ни Германии, ни любого другого из своих соседей ― Австрии, Франции или Италии. Она прекрасно живет в европейском сообществе безопасности, в которое глубоко интегрирована. Поэтому наднациональные институты для задач мира важны, но они необязательно должны быть такими сильными, как институты ЕС.
Фукуяма ожидал, что мировое сообщество безопасности либеральных демократий будет быстро расти. И кстати, Хантингтон с ним не спорит. Он лишь говорит, что нет, не будет расти быстро, что процессы изменений будут более медленными и сложными. Хантингтон также в своей знаменитой книге о столкновении цивилизаций ссылается на теорию демократического мира, высказывает осторожные ожидания, что если Китай начнет демократизироваться, то мир будет меняться в либеральную сторону, но пока этого нет и мы по прежнему живем в другом мире.
И у Фукуямы, и у Хантингтона проводится четкая граница между либеральным миром, либеральным миропорядком и нелиберальным миром. Последний необязательно плохой. Но это мир, в котором не реализованы либеральные принципы внутренней жизни государств. По этой основной причине страны либерального и нелиберального миров живут по совершенно разным законам. Либеральный мир постепенно формирует новые законы взаимоотношений на основе доверия и сотрудничества, нелиберальный же продолжает жить по-старому.
Устав ООН был создан и принят как либеральными, так и абсолютно нелиберальными государствами. Если сам Сталин под ним подписался, то какой же это либеральный миропорядок? У Фукуямы мы находим абсолютно четкий диагноз ООН: она не могла стать основой либерального миропорядка, потому что представляла собой пестрое сборище либеральных и нелиберальных государств.
Существуют как внутренние, так и внешние вызовы для либерального порядка.
Внутренние вызовы ― все то, что отрицает универсальное равенство человека и гражданина. Это может служить источником для подрыва либерального порядка как внутри стран, так и на международной арене. Либеральный порядок подрывают любые проявления национализма, который выделяет одну нацию и не распространяет признание равенства на других, а также религиозный экстремизм, и не только экстремизм, подчеркивающий отличия одной религии от другой, но и популизм. Те же факторы действуют разрушительно в международных отношениях.
В 1993 году Фукуяма приводил яркий пример Сингапура во главе с Ли Куан Ю, который открыто говорил, что Сингапуру не нужен чужой либеральный порядок. Он открыто утверждал авторитарный порядок, который казался многим лучше, эффективнее западного, либерального. Сегодня к Сингапуру Фукуяма добавляет схожую модель Китая. Такие режимы демонстрируют, что, для того чтобы быть успешными, вовсе не нужно быть либералами. Можно быть даже успешнее, чем либеральные системы. Такие нелиберальные, но при этом успешные модели могут вызывать желание со стороны других стран пойти по этому же пути, и это, естественно, является внешним с точки зрения миропорядка вызовом для либерализма.
Отсюда вопрос, какими могут быть либеральные ответы на эти антилиберальные вызовы. Первый и самый главный ответ: либеральные демократии должны сделать свою модель более успешной и привлекательной, чем китайская или сингапурская. Если американцы и европейцы не сделают этого, им придется оставить мечты о сохранении привлекательности либеральной модели. Понятно, что эта привлекательность не определяется на коротком промежутке времени, как и то, что в уже Китае накапливаются острые противоречия роста, тем не менее либеральные демократии должны постараться вернуть ситуацию конца 1980-х ― начала 1990-х, когда на них смотрели как на заслуживающий копирования и подражания образец успешного развития. Это необходимо как для тех, кто находится вне либерального мира, так и для тех, кто внутри, ибо там также протекают сложные кризисные процессы.
Мы должны отдавать себе отчет в том, что идеология либерализма ― это по-прежнему не идеология большинства. Либеральные партии даже в либеральных странах не являются массовыми, они лишь могут выступать в качестве довеска в правящей коалиции, в коалиционном правительстве. В этом смысле внутренний вызов ― это вызов со стороны различных конкурирующих с либерализмом идеологий. И здесь от либеральных демократий требуется прежде всего успешное разрешение их внутренних проблем.
Внешний вызов для либерального порядка иного рода. Он, безусловно, связан с массовой миграцией, когда общества либеральной демократии стремительно пополняются не переварившим либеральные идеи населением. Можно и нужно признать равные права этого прибывающего населения, но это не значит, что оно автоматически захочет жить точно так же, как живете вы. Оно захочет воспользоваться своими равными правами, чтобы жить, как хочет, а потом, возможно, еще и вас примется учить жить по своим правилам. Очень трудно в такой ситуации соблюсти тонкий баланс прав и ценностей.
Согласно демографической статистике ООН, приток мигрантов будет стабильно превышать естественные потери населения в Европе, которое сначала станет медленно расти за счет этого притока, а потом начнет сокращаться даже с учетом миграции. Культурное столкновение цивилизаций будет очень серьезным вызовом, дополнительно усиливающим национализм и популизм, усугубляющим все внутренние вызовы и проблемы.
С точки зрения международной политики чем больше в мире либерально-демократических стран, тем прочнее либеральный порядок. Отсюда вывод Фукуямы: либеральным демократиям ни в коем случае не следует забывать про поддержку демократии в мире. Но речь именно о поддержке, а не о насаждении демократии. С должным учетом того, что не все страны равно открыты для модернизации. Фукуяма первый свел вместе разные теории модернизации, которые показывали многочисленные ее сложности в различных обществах, зависящие от уровня экономического и социального развития, политической культуры и массы других факторов, и сделал вывод: простыми процессы модернизации не будут практически нигде.
Тем не менее активно помогать этим процессам необходимо, потому что то, как будет расти в будущем сообщество безопасности либеральных демократий, во многом определит судьбу либерального миропорядка, судьбу мира и сотрудничества народов.
Для достижения этих стратегических целей и был разработан ряд документов и инструментов, в числе которых Всеобщая декларация прав человека ООН, Атлантическая хартия 1941 года и многие другие. Есть следы либерального подхода и в Уставе ООН, например ссылка на права человека. Позже в ООН появилась Комиссия по правам человека, сейчас ― Совет по правам человека. Совет Европы создавался именно как инструмент для того, чтобы сделать Западную Европу устойчивой к искушению коммунизмом и авторитаризмом. В основе всех этих решений лежало стремление навсегда выйти из нацистского тоталитаризма. Исходный принцип Всеобщей декларации прав человека заключается в том, что диктаторские тоталитарные режимы угрожают самим своим существованием миру и безопасности. Отсюда же и общая идея укрепления международного правопорядка.
Западную Германию пригласили в новые международные структуры в том числе для укрепления правопорядка ― демократического, федеративного, либерального. В Совете Европы был создан механизм Конвенции об основных правах и свободах и судебный механизм ЕСПЧ, самый сильный правозащитный механизм в мире, который очень долго перемалывал правовые системы не только Германии, но и Великобритании, Франции и других европейских стран и до сих пор не перемолол их полностью. К сожалению, сегодня возникла реальная опасность того, что Россия может выйти из Совета Европы, из этого ключевого для Европы механизма защиты основных либеральных принципов и свобод.
Существует также глобальный ооновский механизм на основе Пакта о гражданских и политических правах 1966 года, а также принятого в его исполнение факультативного протокола ― Совет по правам человека при ООН. Но это самый комфортный для государств механизм. Несмотря на то что он предусматривает право прямого обращения, прямых жалоб, содержит механизмы конфиденциального расследования этих жалоб, обязательства государств сотрудничать в разных формах, самое неприятное, с чем могут столкнуться государства — нарушители прав человека, это с публичным порицанием, и не более того.
На каком-то этапе, с 1981 по 1991 год, формировался подобный механизм в ОБСЕ, но сейчас он практически не работает, хотя на бумаге продолжает существовать. Два государства вообще отказались сотрудничать в его рамках ― Туркменистан и Беларусь. Когда все вступили в Совет Европы, жалобы ушли туда и ОБСЕ перестал этим заниматься.
Таким образом, существует целый набор инструментов, чтобы поддерживать либеральные тенденции в разных странах, но при этом не навязывать их, тем более не навязывать силой, а действовать прежде всего через механизмы сотрудничества, в том числе в области прав человека. Работать через продуманные механизмы содействия развитию, через механизмы миростроительства, которые созданы в ООН и основаны на либеральной концепции миростроительства, но, к сожалению, не очень успешно работают. Эту либеральную концепцию международных отношений, основанную на верховенстве закона, на правильном управлении, на формировании демократических институтов, на представительной власти, включающей в себя все слои населения, концепцию, которая лежит в основе современной модели миростроительства, не оспаривает открыто сегодня никто ― даже Китай, который очень активно финансирует Организацию Объединенных Наций и участвует в миротворческой деятельности.
Итак, либералы должны постараться сохранить существующее ценное ядро либерального миропорядка, сделать его более привлекательным, а также всемерно содействовать разными способами продвижению либеральных идей в мире, понимая, что это будет не просто и не быстро.
При этом трудно ожидать изменения политики от нынешних российских правящих элит. В их сознании господствует абсолютно антилиберальный подход, и поэтому, предлагая им какие-то решения, нельзя ни в коем случае говорить, что это либеральные решения. Кроме того, они совершенно уверены в том, что никакого международного права на самом деле нет, что это все не более чем спецоперации Запада против Российской Федерации. В таких случаях они всегда ссылаются на агентурную информацию, на донесения агентов спецслужб, на то, что тот же ЕСПЧ и другие структуры «действуют по указанию ЦРУ» и т.д. и т.п.
Со стороны либералов требуется всемерно укреплять правовые механизмы и доверие к ним, чего очень не хватает на фоне современного тотального отсутствия взаимного доверия. Важно, чтобы Запад показал на деле, что правовые решения возможны, что они не просто лучшие, но и вполне достижимые. Что возможны решения, которые не будут восприниматься как абсолютно антироссийская или русофобская политика Запада. Нет недостатка в позитивных идеях, но убедить Путина в том, что они реализуемы, нельзя без разумных шагов Запада.
Директор Института стратегических оценок, заместитель председателя ассоциации «Россия — США»
Так обстоят дела и в России, где создана своего рода «витринная демократия», когда на бумаге и в риторике все либеральное обозначено, принято, признано и подписано, но на практике мало что работает на благо человека, на его права и свободы. При этом основной предлог для ограничений предъявляется все тот же, очень старый ― враждебное внешнее окружение, которое не позволяет нам жить нормально и свободно. Все это вновь искусно внедряется в наши мозги.
Либерализм и продвижение либеральных идей в современной России требуют прежде всего четкой антивоенной позиции. Противодействия новой гонке вооружений, развалу существующих договорных обязательств — в последнем виноват не только непредсказуемый Трамп, но и мы сами, как говорил В. Черномырдин, «много чего понаделали». Мы сами упустили имевшиеся возможности, например, в период президентства Б. Обамы. Обама несколько раз предлагал России продолжить процесс ограничения и сокращения вооружений. Мы не отреагировали, к сожалению. Теперь, конечно, спохватились, и предлагаем то же самое, когда нас уже совсем прижали при Трампе. Но теперь уже нет ответа от США.
Во внешней политике, вместо того чтобы следовать принципам, которые могли бы походить на либерализм и либеральные идеи: неделимость безопасности, примат международного права, равенство, принципы невмешательства, соблюдение международного права и проч., Россия вдруг оказалась вовлечена в большую геополитическую игру, игру без правил, в которой делает то, чего даже советская власть не делала. Советская власть всегда изображала себя высокоморальной и миролюбивой, всегда выступала за гуманизм, за защиту интересов простых людей, за социализм, за мир во всем мире.
В нынешней же большой геополитической игре ничего нет, кроме подобия холодного расчета (потому что расчет может быть холодным только тогда, когда он срабатывает, а у нас почему-то срабатывает плохо). В каждом отдельном эпизоде у России имеется абсолютно железобетонно правильная позиция, но вся вместе политика производит странное впечатление: мы как будто находимся в луже и время от времени прыгаем в ней, чтобы летели брызги в разные стороны, чтобы кого-то погуще забрызгать.
Выход из этого положения состоит в продвижении либеральных ценностей во внешней политике, либеральных в очень широком понимании. Либеральная внешняя политика ― это разумная внешняя политика, которая в том числе отвечает коренным интересам каждого индивидуума в любой стране. Потому что гонка вооружений интересам индивидуума, гражданина не отвечает, потому что культивируемая властями психология осажденной крепости, по сути, означает наступление на личные права, сокращает бюджеты семей, сужает возможности для высказывания своего мнения и для критики. Парадоксально, но даже внешняя политика брежневского СССР не только по риторике, но и в реальности была более взвешенной и рациональной, чем нынешняя российская. И возврат хотя бы к ее стандартам сегодня уже стал бы шагом вперед.
Основной задачей любой страны является благополучие ее граждан, «сбережение народа». Соответственно, главной целью внешней политики является инновационное развитие, развитие экономики. Это официально наша внешнеполитическая цель. Она прямо так и записана во всех доктринальных документах, об этом же постоянно твердит президент Путин. Однако на практике проводится совершенно иная политика.
Для России важно сохранить свое будущее, оставить его перспективным. Но коридор наших возможностей все сильнее сужается. Мы загоняем себя в пространство, из которого очень сложно будет возвращаться, тем более что превалирует мнение, что Россия великая держава, а значит, она не может делать шаг назад. Если сказано или сделано не совсем то или совсем не то, то следующий шаг можно делать только вперед, поэтому ошибка наслаивается на ошибку и в результате мы находимся там, где находимся. В этой ситуации задача либерализма прежде всего в том, чтобы разоблачить господствующие мифы — например, о либеральной Европе как вечном враге великой России, о том, что либерализм есть естественная противофаза нашего патриотизма, что все, что делается в Европе, делается во вред России, что европейские институты враждебны нам и вредны. Такой негативный и мифологический дискурс культивируется у нас уже столетиями.
Либеральные ценности трактуются у нас не только однозначно негативно ― они трактуются вульгарно. А ведь либерализм защищает не только права и свободы, но и экономический прогресс, поэтому пропаганда либерализма — это еще и пропаганда достойной жизни для каждого. Можно не признавать либеральные ценности, но нельзя отрицать, что либерализм предполагает нормальность в экономике, конкуренцию, конкурентоспособность, значимую роль отдельного предпринимателя, его защиту, эффективные суды. Это и есть наш путь вперед.
О военной безопасности. С точки зрения либерализма речь идет о защите страны от того, что мы воспринимаем как угрозы, малыми средствами (разумная достаточность). Мы должны говорить о цене для каждого гражданина и каждой семьи непомерного производства и поддержания вооружений, о том, какие ресурсы изымаются для этих целей из бюджетов для решения задач развития. Либерализму важно оседлать эту сторону публичного дискурса, делая упор на необходимость возвращения к нормальным отношениям с окружающим миром, так как без этого невозможно обеспечить нормальное будущее России, благосостояние, права и свободы ее граждан.
Нужно вернуться к партнерству для развития, партнерству для модернизации, которое еще вчера воспринималось как совершенно нормальная часть нашей внешней политики. Поэтому возвращение к нормальности и есть возвращение к либеральным ценностям.
Кандидат политических наук
Изучает европейскую политику, деятельность международных организаций, интеграционные процессы, формирование внешней политики, развитие политики в области безопасности и обороны.
Можно согласиться с общим выводом о деградации и кризисе международных порядков и структур (включая ООН), созданных когда-то в соответствии с либеральным в широком смысле видением. Но все же они и сегодня продолжают работать в ежедневном режиме и на прежних либеральных основаниях. Так, в Совбезе ООН по-прежнему немало полезных решений принимается консенсусом, но это никому не интересно. К сожалению, позитивная повестка не привлекает к себе внимания ни исследователей, ни тем более политиков и граждан — все обращают внимание только на конфликты и противоречия.
Сохраняется широкий международный консенсус в отношении целого ряда операций по поддержанию мира, которые ООН продолжает проводить в кризисных регионах, что важно для поддержания мира и стабильности. Увы, и об этом знает лишь узкий круг околооновских экспертов, остальной же мир международников продолжает мыслить упрощенно, в черно-белой гамме. Так что обратить серьезное внимание на то, что делается в существующих институтах и что еще можно делать, очень и очень важно.
Это же касается и «Большой двадцатки» ― довольно интересного механизма, вполне перспективного, несмотря на, может быть, недостаточную динамику в его работе. Это же относится к ОБСЕ, в которой имеется много противоречий и неувязок, но сама организация имеет большой опыт и потенциал сотрудничества.
С точки зрения широкого либерального подхода к международным отношениям мы давно уже находимся не в чистом поле. По сравнению с ситуацией на начало XX века весь комплекс международных институтов, который был создан по окончании Второй мировой войны, отнюдь не бюрократический и малозначимый мусор. Накоплен огромный опыт их использования и сотрудничества в их рамках, при всех широко признаваемых проблемах и недостатках.
Следует активнее использовать эти институты, смотреть, в чем мы могли бы находить больше компромиссов, привлекать к этому больше экспертного и общественного внимания. Вообще, надо признать, что людям не хватает знаний о международных структурах, о важной роли, которую они играют, поэтому либеральные политические силы, СМИ, экспертное сообщество должны активизировать усилия по широкому просвещению обществ.
Россия сталкивается с особыми рисками. Если страна выйдет из Совета Европы ― это будет существенный разрыв с Европой и европейскими стандартами законодательства. Выход из СЕ может повлечь за собой возвращение смертной казни и многих других негативных вещей, дальнейшую деградацию внутренней и внешней политики России. Остается в подвешенном состоянии Совет Россия ― НАТО, который в широком понимании, как институт, помогающий обеспечить мир и безопасность, также относится к либеральному миропорядку. Очень важно, чтобы взаимодействие между Россией и НАТО, несмотря на все разногласия, сохранялось, в том числе чтобы продолжался диалог на уровне военных. Необходимо решить, что делать с договорами о стратегических наступательных вооружениях и т.д. Совет Россия ― НАТО ― полезная структура, и не следует ее выкидывать на свалку истории, это нам никоим образом не поможет. Подобных примеров немало, и буквально в ближайшие годы решится судьба многих структур, договоренностей, механизмов сотрудничества.
За всеми острыми спорами нельзя не видеть, что упадок всей системы международных институтов продолжается. Если вовремя не нажать на тормоза, миру и безопасности будет нанесен большой ущерб. Мы находимся в ситуации, когда притормозить деградацию международного права и международных институтов ― это, собственно, и есть задача максимум для либералов. И эта задача должна решаться вместе с существующими политическими режимами и их лидерами.
При этом следует учитывать, что многие принципы нынешней российской внешней политики, в том числе раздражающие Запад, носят структурный характер. Даже если мы увидим внутренние изменения в России, даже если российское руководство выступит с предложением дружить, очень непросто будет перейти от нынешнего статус-кво к принципиально новому состоянию международных отношений. Важно, какой окажется встречная позиция стран Запада. Существует большая вероятность (и опасность) того, что она, эта позиция, будет напоминать реакцию, которая была проявлена в ответ на смелые инициативы М. Горбачева конца 1980-х годов. Тогда, не поддержанный в должной мере Западом, большой либеральный запал, который существовал в российской политике на рубеже 1980‒90-х годов, быстро оказался растрачен и не принес должных результатов, в том числе в части внешнеполитической, в части «нового мышления для нашей страны и всего мира», которое Горбачев тогда активно предлагал.
Для глубоких и прочных изменений как мировой политики, так и политики России в либеральном духе потребуется серьезное и долгосрочное содействие этим изменениям со стороны либеральных демократий Запада. В свою очередь, легитимность либеральной политики может быть подтверждена только экономическим ростом и ростом благосостояния общества.
Сравнивая Россию и ЕС, важно понимать, что, при всех текущих проблемах, европейский политический и общественный мейнстрим в целом на порядок более либерален, чем российский. Да и по всему постсоветскому пространству вряд ли можно найти политический спектр, сопоставимый со странами Европы. Задача российских либералов в этой связи заключается не в том, чтобы появилась наконец сильная либеральная партия и даже выросла до правящей, а в том, чтобы общий российский политический мейнстрим эволюционировал в более либеральном направлении. Нам недостает не столько сильной либеральной партии, сколько публичного пространства как такового, самой по себе общественной содержательной дискуссии. В той же Германии в дискуссиях по телевидению активно участвуют министры, депутаты, другие люди, принимающие решения, и эти дискуссии реально влияют на то, какие решения принимаются. В России нет ничего подобного.
Россия находится в длительном историческом периоде, который не закончится ни завтра, ни послезавтра и в котором мы сознательно выбираем модели поведения XIX века. Многие руководители России сегодня думают, что мы сильнее и энергичнее прочих и потому международное право и многосторонние структуры не очень нам и нужны. Что других съедят, а мы еще поборемся и, может быть, в конечном счете даже окажемся на коне. Такую самонадеянную правящую элиту важно убедить в полезности сохранения хотя бы системы страховок, демпферов. Ведь даже те, кто сегодня азартно борется с Западом, в общем и целом не настроены уйти с арены калеками.
Необходимость демпферов в виде международных структур и права, наверное, чуть ли не единственный тезис, который все еще работает. В мире идет жесткая борьба, и мы не можем полностью отказаться от средств защиты. Этот важный аргумент может сработать в отношении сохранения членства в Совете Европы, активизации сотрудничества в рамках ОБСЕ и многих других. Сохранение России в Совете Европы, например, ― это четко выраженная и в наших условиях смелая позиция российского МИДа.
и следите за обновлениями!